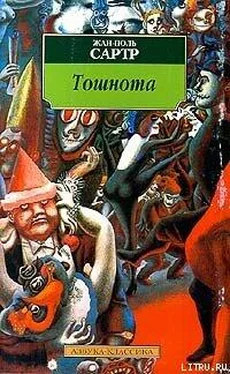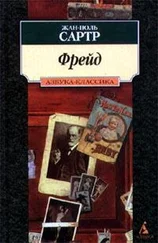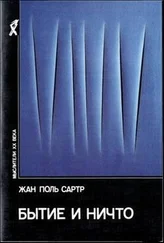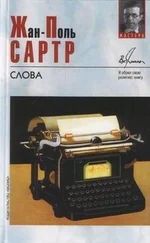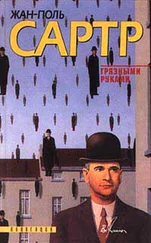Чтобы заполнить время, делаю подсчеты. Тысяча двести франков в месяц – это не слишком жирно. И все же, если поприжаться, этого должно хватить. За комнату триста франков, пятнадцать франков в день на еду; на стирку, мелкие расходы и кино, остается четыреста пятьдесят. Новое белье и одежду понадобится покупать не скоро. Оба мои костюма пока опрятны, хотя и залоснились на локтях; если я буду аккуратен, они послужат мне еще годика три-четыре.
Боже мой! Стало быть, Я собираюсь прозябать этаким грибом? Что я буду делать целыми днями? Гулять. Посиживать на железном кресле в саду Тюильри или нет, пожалуй, на скамейке – это дешевле. Ходить в библиотеку читать книги? А еще? Раз в неделю кино. А еще? Может, по воскресеньям позволю себе выкурить сигару? Может, буду играть в крокет с пенсионерами в Люксембургском саду? В тридцать лет! Мне жалко самого себя. Минутами мне приходит мысль: а не лучше ли спустить за год все триста тысяч франков, что у меня остались, а потом… Но что мне это даст? Новую одежду? Женщин? Путешествия? Все уже было, а теперь конец – больше не хочется: какой от всего этого прок? Через год я окажусь таким же опустошенным, как сегодня, мне даже вспомнить будет нечего, а наложить на себя руки не хватит духу.
Тридцать лет! И 14 400 франков ренты. Каждый месяц стриги себе купоны. Но ведь я еще не старик. Дали бы мне что-нибудь делать, все равно что… Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, потому что сейчас я ломаю комедию перед самим собой. Я ведь прекрасно знаю, что ничего делать не хочу: что-нибудь делать – значит создавать существование, а его и без того слишком много.
По правде сказать, мне просто не хочется выпускать из рук перо, похоже, надвигается приступ Тошноты, а когда я пишу, мне кажется, я его оттягиваю. Вот я и пишу что в голову придет.
Мадлена, которая хочет доставить мне удовольствие, кричит издалека, показывая на пластинку:
– Ваша пластинка, мсье Антуан, та, что вы любите, хотите послушать последний разок?
– Пожалуйста, если вам нетрудно.
Я говорю это из вежливости, в данную минуту у меня нет охоты слушать джаз. Впрочем, послушаю – ведь, как справедливо говорит Мадлена, это в последний разок: пластинка очень старая, слишком старая даже для провинциального города, в Париже я ее не найду. Сейчас Мадлена поставит ее на патефон, она завертится, стальная игла запрыгает, заскребет по бороздкам, а потом, когда они по спирали приведут ее к центру пластинки, все кончится, хрипловатый голос, поющий «Some of these days», умолкнет навсегда.
Началось.
Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве. Вроде моей тетки Бижуа: «Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой дядя». И концертные залы ломятся от униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого Вертера; они думают, что красота им соболезнует. Кретины.
А ну– ка, пусть скажут мне, сострадательна ли, по их мнению, вот эта музыка. Еще совсем недавно я был весьма далек от блаженства. На поверхности я механически делал подсчеты. А под ними в стоячей воде загнивали неприятные мысли, которые облеклись в форму несформулированных вопросов, немого удивления и ни днем ни ночью не оставляют меня. Мысли об Анни, о моей неудавшейся жизни. А в самых глубинах Тошнота -робкая, как занимающийся рассвет. Но в то мгновение музыки не было, я был угрюм и спокоен. Все окружавшие меня предметы были сделаны из той же материи, что и я сам, – из своего рода гаденького страдания. Мир вне меня был так уродлив, так уродливы грязные кружки на столиках, коричневые пятна на зеркале и на переднике Мадлены, и любезная физиономия толстяка, любовника хозяйки, так уродливо само существование мира, что я чувствовал себя в своей тарелке, в своей семье.
Но вот зазвучал голос саксофона. И мне стыдно. Родилось маленькое победоносное страдание, страдание-образец. Четыре ноты саксофона. Они повторяются снова и снова и будто говорят: «Делайте как мы, страдайте СОРАЗМЕРНО». Ну да! Само собой, я хотел бы страдать именно так, страдать соразмерно, без снисхождения, без жалости к себе, с такой выжженной чистотой. Но чем я виноват, что пиво на дне моей кружки теплое, что на зеркале коричневые пятна, что я лишний, что даже самое искреннее мое страдание, самое сухое, тяжелеет, и волочится, и плоть у него избыточна, хотя кожа обвисла, как у морского слона, а глаза у него влажные, трогательные, но при этом отвратительные? Нет, ее никак не назовешь сострадательной, эту крупицу алмазной нежности, которая кружит над пластинкой и слепит меня. Ни даже иронической – она бодро кружит, занятая только собой: как коса, вонзилась она в пошлое панибратство мира и кружит теперь, а всех нас: Мадлену, толстяка, пятнистое зеркало, пивные кружки, всех нас, отдавшихся существованию, – ведь мы же были среди своих, только среди своих, – она застигла во всей нашей будничной, разболтанной неприглядности, и мне стыдно за себя и за все то, что ПЕРЕД ней существует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу