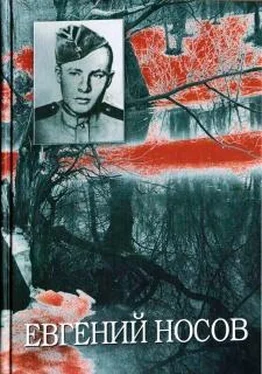— Да ну! Иван Дронов?
— Еще на той неделе, говорят, подал.
— Гляди ты… А — молчок. Никому ни слова.
— А чего б ему в дуду дудеть?
— Ну, криворотый! Лих, лих малый!
Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?
И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.
— Да бросьте, не возьмут его! Кто ж будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.
— Да не, на Ивана не похоже,— сказал Леха Махотин.— Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.
— А чего ж: подал — а доси дома?
— Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.
— Посыльной говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких,— уточнил Зяблов.— Да из Ситного учитель.
— Ну вот, вишь… Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.
— Так-то, пока рассмотрят,— хмыкнул Кузьма,— дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?
— А вот та и разница,— сказал Леха Махотин.— То ты сам, а то по повестке.
— Ага…— вертанул белками Кузьма.— В хорошие набивается.
— А ты чего ж не догадался? — спросил Леха.— Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.
— А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма.— Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первым штаны замарал…
— Не, малый, ошибся,— усмехнулся Махотин.— Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану.
— Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.
— Это какие такие лапы? — посерьезнел, насторожился Махотин.— Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал…
— Ладно тебе! — одернул Давыдко шурина.
— А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.
Махотин привстал, заходил скулами.
— А ну давай выйдем…— сдавленно проговорил он.— Пошли, гад!
— Сядь, Алексей,— нажал на его плечо Афоня-кузнец.— И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку… Кто подал, кто не подал… Еще только за столом сидим… Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме… Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, всё не козырь… Все не наш верх…
— Да уж не козырь, это верно,— проговорил Давыдко.
— Вот у меня в кузне,— продолжал Афоня-кузнец,— на што уголь горюч, железо варит, и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка. Как-никак трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.
— Иван партейный,— напомнил Никола Зяблов.— Может, ему так предписано.
— Всем предписано,— сунул бровями Афоня-кузнец.— Да не всяк, вишь, горазд.
И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.
— А я так, ребятки, на это скажу,— встрял в спор дедушко Селиван.— На войну што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.
— Не говори! — мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки.— Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть — голосит, спать ляжет — опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой… А давеча,— усмехнулся Леха,— когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.
Читать дальше