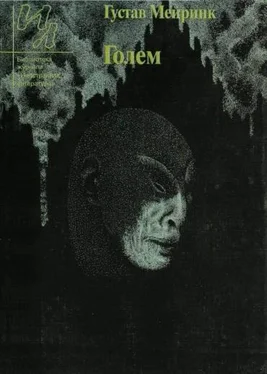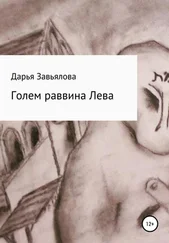В этом тоже для меня заключена какая-то бесконечная услада.
А теперь прощайте, дорогой мастер, заранее тысячу раз благодарен вам…
Он крепко пожал мне руку, подмигнул и прошептал что-то еле слышно, чего я все еще не понимал.
— Подождите, господин Хароузек, я немного провожу вас вниз, — машинально повторил я слова, прочтенные мною по движению его губ, и вышел вместе с ним.
Мы остановились на темной лестничной площадке первого этажа, и я собирался проститься с Хароузеком.
— Можно подумать, что вы чего-то хотели добиться, изображая шута горохового… Вы… Вам нужно, чтобы Вассертрум отравился! — бросил я ему в лицо.
— А как же, — возбужденно ответил Хароузек.
— И вы думаете, что я приложу к этому руку?
— Вовсе не обязательно.
— Но я ведь отдам колбу Вассертруму, как вы меня просили только что!
Хароузек покачал головой.
— Если вы сейчас вернетесь к себе, то убедитесь, что он ее уже заначил.
— Как вы можете допустить такое? — удивился я. — Вассертрум из тех людей, кто никогда не наложит на себя руки — он слишком малодушен для этого и никогда не действует по внезапному импульсу.
— Просто вы незнакомы с медленно действующим ядом внушения, — строго оборвал меня Хароузек. — Если бы я выражался заурядно, вы бы остались правы, но я заранее учитывал даже самую ничтожную интонацию. На таких выродков действует только ходульный пафос! Поверьте! Я мог бы вам изобразить его мимику при каждой моей фразе. Нет такого «китча», как говорят художники, иначе говоря, нет такой гнусной пошлости, которая не вышибла бы слезу у плебеев, пропитанных ложью до мозга костей, не поразила бы их душу! Разве вы не знаете, что театр давно бы уже уничтожили огнем и мечом, будь это иначе? Мерзавец познается по сентиментальности. Тысячи бедняг могут умирать с голоду, а у него и слезинки не выжмешь, но если на подмостках разрумяненный дурень, переодетый в деревенщину, вращает глазами, тогда они воют, аки псы на цепи. Если папуля Вассертрум, может быть, даже завтра позабудет, чего ему стоил сегодняшний душевный понос, каждое мое слово оживет в нем, едва пробьет час, когда он самому себе покажется бесконечно жалким. В такие моменты возвышенного покаяния нужен только небольшой толчок — а о нем я позабочусь, — и даже самая трусливая лапа схватится за яд. Надо лишь иметь его под рукой! Вероятно, Теодорчик тоже не сцапал бы склянку, не подстрой я ему все так ловко.
— Хароузек, вы страшный человек, — ужаснулся я. — Неужели вы совсем не чувствуете…
Он тут же зажал мне рот ладонью и втолкнул меня в стенную нишу.
— Тише! Вот он!
Еле держась на ногах, опираясь рукой о стену, по лестнице спустился Вассертрум и, пошатываясь, прошел мимо нас.
Хароузек на ходу пожал мне руку и выскользнул следом за ним.
Когда я поднялся к себе, то увидел, что роза и колба исчезли, а вместо них на столе лежали золотые помятые часы старьевщика.
Я вынужден ждать восемь дней, прежде чем получу свои деньги, как мне объяснили в банке. Это был обычный срок для расторжения договора.
Пришлось обратиться к директору, я придумал предлог, что ужасно спешу и собираюсь через час уезжать.
Мне объяснили, что он ничего нового не скажет и что даже он ничего не может изменить в традициях банка; субъект со вставным стеклянным глазом, подошедший одновременно со мной к окошечку кассы, рассмеялся.
Предстояло ждать смерти восемь серых ужасных дней!
Мне казалось, этому не будет конца.
Я был так подавлен, что совсем не сознавал, сколько времени уже стою перед дверью кафе, куда я собрался зайти.
Наконец я вошел, чтобы только отделаться от неприятного типа со вставным стеклянным глазом, следовавшего за мной от банка по пятам. Когда я оглядывался на него, он тут же начинал шарить по земле, как будто что-то потерял.
На нем был светлый клетчатый пиджак, узко стянутый в талии, и черные засаленные брюки, мешковато болтавшиеся на его ногах. На его левом ботинке была яйцевидная выпуклая заплата из кожи, как будто под нею на палец ноги был надет перстень с печаткой.
Едва я присел, как он тоже вошел и устроился за соседним столиком.
Я думал, что он из попрошаек, и уже было полез за своим кошельком, когда увидел, что на его жирных пальцах мясника сверкают крупные бриллианты.
Час проходил за часом, а я продолжал сидеть, чувствуя, что от внутреннего напряжения непременно сойду с ума, — но куда мне было идти? Домой? Или мыкаться по улицам? Из двух зол одно было ужаснее другого.
Читать дальше