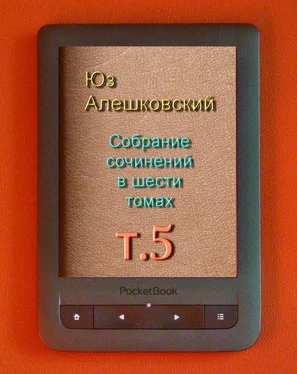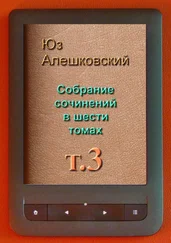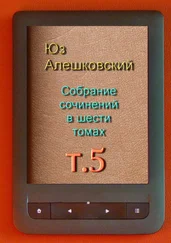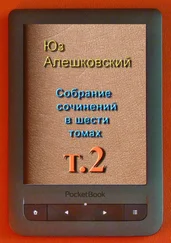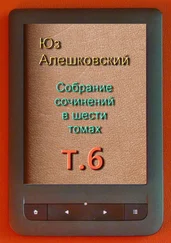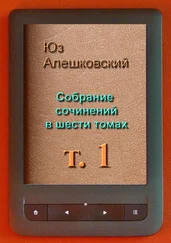– Не убивал, – продолжаю стоять на своей невиновности, – и еще раз не убивал, но от всего сердца желаю ему, гаду, естественной смерти! Он мне остался должен пару штук. И это он меня подбил на съемки, а потом втихаря предал! Уверяю вас, я и хожу-то еле-еле, а Дробышев, безусловно, сволочь, но в палате я все-таки отсутствовал по уважаемой мной причине. Если в двух словах, то я пребывал в довольно продолжительной близости с медсестрой на массажной койке. Не считал, но отвечаю за три-четыре алиби. У меня еще и моча вылилась из банки. Она всегда вам это подтвердит. Просто не мог я быть на месте преступления при всем своем огромном желании проверить функционирование своей простаты на объекте женского пола. Никак не мог. Я и на суде заявлю все это во весь свой вылеченный голос. Никогда эту роль стрелочника я вам не сыграю на предварительном следствии, никогда! – хоть совайте башкой вперед в японскую сукодробилку, а самооговорившим себя Бухариным никогда не был и не буду.
Так заявив, я письменно объявил прокуратуре и следствию политическое молчание, в любую минуту готовое перейти в решительную голодовку. Пусть, решил, доказывают вину и сажают в КПЗ, где на меня, на такого кинутого и зверски травмированного, никто не посягнет и не опустит.
Пока что вот и сижу, и никто на меня не посягает, поскольку судьба моя слывет современным анекдотом наших дней. А медсестра, с которой, по ее желанию, повенчаюсь в лагерной церквушке, притаранивает мне сюда бациллистую хавку и всякие хитроумные детективы про мафию, убийства и шантаж.
Что касается угроз прокуратуры, то я и так нахожусь в аду, а для того, кто пыхтит в нем еще при жизни, смерть есть самая, пожалуй, светлая надежда на непоколебимый атеизм вечного покоя. Если, конечно, не буду освобожден вскоре после успешных перевыборов губернатора Щупова. И больше никогда никому не отдам ни единой связки своего голоса.
К сему: Константин Глухарев, никакого Дробышева, к великому своему сожалению, не убивавший, но стоически ожидающий вмешательства в камарилью нашего беззакония органов ООН, Евросоюза, мировой и российской общественности, которая туго знает свое дело отделения духовности от государства.
Отрывок из письма бывшего следователя N. N. Генеральному прокурору России
…Как-никак, господин Прокурор, до и после летального исхода нашей мудацкой Системы, лет восемь, как, вероятно, Вам доложили, находился я в роли Порфирия Порфириевича по служебную сторону казенного письменного стола, а находиться по другую его сторону никогда не желал. Поэтому и пишу вам из одной недоразвитой, слава Богу, страны третьего, если не четвертого мира.
Когда-то привычно мне было видеть перед собой не только крупных и мелких Раскольниковых, а персонажей иных романов Достоевского, великого знатока человеческой души в отличие от нас с вами.
Да, привычно, но самому колоться, как говорят урки, за всю масть – сия юриспруденческая диспозиция судьбы мне никогда не улыбалась.
В те времена большинство граждан, из сидевших напротив меня, не худшего из тогдашних следаков, спешили побыстрей облегчить совесть, иные подолгу упирались, некоторые постепенно сникали под тяжестью улик, но, бывало, попадались мне «шибко духовитые». Эти канали в закрытку или в камеру смертников, оставаясь в полной несознанке.
Вдаряюсь сейчас в беллетристику для того, чтобы справиться с психологическим неуютом, неожиданно очутившись в довольно фантастической ситуации жизни и являясь беглецом. Одно дело: быть Порфирием Порфириевичем (он для меня лично – эталон профессионализма и человечности), брать за служебным столом показания у жулья, аферистов и убийц, но самому оказаться на их месте, поступив справедливо, хотя и нарушив закон, – увольте по собственному моему желанию.
Впрочем, умолчим о том, что я сам себе теперь – и Порфирий, и Раскольников, и защита, и, если уж на то пошло, частичное судейское оправдание, умолчим…
К перестройке я отнесся нормально. Меня обнадеживали многие перемены к лучшему, если и не в быту большинства трудяг, то, скажем, на книжных развалах, на страницах газет и журналов. Хотя возврат читателям-интеллигентам запрещенной ранее литературы, а толпе вообще – свободы митингований было, на мой взгляд, наименее трудным, наименее важным из всего, что обязаны были предпринять банкроты из политбюро, когда бы они не были тупыми тиранозаврами и трухлявыми дубами.
Имелись и у меня на перестройку некоторые (без телячьего восторга) надежды, хотя многие юристы с ужасом секли (в отличие от массы кухонных философов), насколько прогнила и до основания протухла вся наша Система.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу