«Поют птицы, поют пролы, партия не поет. По всей земле, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных запретных странах за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии – всюду стоит эта крепкая непобедимая женщина, чудовищно раздавшаяся от родов и вековечного труда, – и вопреки всему поет. Из этого мощного лона когда-нибудь может выйти племя сознательных существ. Ты – мертвец; будущее – за ними. Но ты можешь причаститься к этому будущему, если сохранишь живым разум, как они сохранили тело, и передашь дальше тайное учение о том, что дважды два – четыре».
«Крепкая, непобедимая…», «мощное лоно» – слова так же оскорбительны, как и посыл «Скотного двора». И сама эта перспектива, как красноречиво расскажет герою О’Брайен, абсурдна.
Для интеллектуала вроде Оруэлла существовало лишь два варианта: либо романтизировать рабочего посредством обожествления, что означает обесчеловечивание, либо рабочего презирать. Истинный ангсоц уже был заложен в нем: он читал «Нью стейтсмен», тогда как рабочие читали желтую прессу. Рабочие не покупали его книги. Рабочие и мои книги не покупают, но я не ропщу. Не совершаю я и ошибки, предполагая, что жизнь духа благороднее или выше жизни тела. Рабочий в доках и романист принадлежат к одному и тому же организму, называемому общество, а общество, что бы оно ни думало, не может существовать без любого из нас.
Оруэллу не повезло в том, что он оказался выходцем из правящего класса на закате Британской империи. Пропасть между ним самим и низшими классами, которые сквернословили и ужасно воняли, можно было преодолеть лишь снисхождением, своего рода ритуальной идентификацией, полетом фантазии. Под конец своей литературной карьеры Оруэлл отбросил всяческую видимость веры в рабочий класс. А это неизбежно означало утрату веры в мужчин и женщин вообще, в возможность любви как искры, способной преодолеть бесконечность – пять дюймов или пять миллионов миль, – между одной человеческой личностью и другой. «1984» – не столько пророчество, сколько документ отчаяния. Не отчаяния от того, какое будущее ждет человечество, а личного отчаяния от собственной неспособности любить. Если бы Оруэлл любил мужчин и женщин, О’Брайен не смог бы так мучить Уинстона Смита. Огромное большинство мужчин и женщин, жуя, как коровы, пялятся на экран, откуда вопит от боли Уинстон Смит и где утверждают смерть свободы. Это чудовищная пародия на вероятное будущее человечества.
Нет такой штуки, как пролетариат. Есть только мужчины и женщины различных степеней социального, религиозного и интеллектуального сознания. Рассматривать их в терминах марксизма так же унизительно, как смотреть на них сверху вниз из кареты вице-короля. Мы не обязаны преодолевать пропасть происхождения, образования, акцента и вони, заключая брак вне нашей собственной среды или даже мучиться от необходимости торчать в сырой понедельник под пирсом Уиган. Но наш долг не превращать такие абстракции, как «класс» и «раса», в знамена нетерпимости, страха и ненависти. Мы должны стараться помнить, что мы, увы, все одинаковы, то есть довольно отвратительны. В «1984» Оруэлл создал пропасть, которая не может существовать, и в этой пропасти он построил свою невероятную какотопию. Она так же эфемерна, как воздушные замки. Она так нас захватывает, что мы не прибегаем к всепобеждающей силе сомнения, которая могла бы развеять замок. В 1984 году все будет совсем не так.
Шла предрождественская неделя, была середина дня понедельника, безветренного и сырого, и муэдзины Западного Лондона заходились руладами о том, что нет Бога, помимо Аллаха.
– Ла ила-а илаха илла’лах. Ла ила-а илаха илла’лах.
Бев Джонс локтями проложил себе дорогу через многонациональную толпу покупателей мимо «Диск-бутика», потом мимо увешанных дождиком супермаркета и бывшего паба, превратившегося в турагентство, специализирующееся на поездах в Мекку, но все еще известное как «У Аль-Балнбаша», свернул с Толпаддл-роуд на Мартир-стрит и наконец очутился возле высотки «Хогарт». Тут он и проживал, но как же трудно, подумал он с упавшим сердцем, в это поверить, учитывая, что путь внутрь преграждала банда агрессивных подростков. Этот бич улиц звался бандами куминов, выражение «куми на» означало на суахили «десять», а в более широком смысле всех, кому от десяти до двадцати. Обычно в этот час они терроризировали школьные столовые, но сейчас шла забастовка учителей. Вот почему Бев сам не остался в столовой. Его дочь Бесси была дома одна, без присмотра, его жена Эллен лежала в больнице. Ему надо отпереть кухню и накормить Бесси. Тринадцати лет, не по годам зрелая физически, в остальном она не дотягивала до своего возраста. Врачи государственного здравоохранения винили во всем «Енетлию», препарат, прописываемый для облегчения родов, побочного действия которого никто не предвидел. «Никто не виноват, – сказал доктор Зазибу. – Медицина должна идти вперед, приятель».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






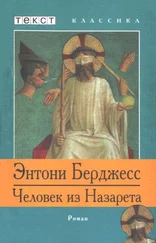



![Энтони Берджесс - Право на ответ [litres]](/books/396964/entoni-berdzhess-pravo-na-otvet-litres-thumb.webp)
