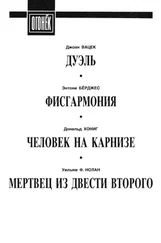«Человек может покинуть Землю и высадиться на Луне, – писал Кестлер, – но не способен перейти из Восточного Берлина в Западный. Прометей тянется к звездам с безумной ухмылкой и тотемным символом в руке». Таким, каков он есть, человека делает не просто неспособность гомогенетической коры головного мозга, иначе говоря, изокортекса, контролировать старый, животный мозг. Дело также в том факте, что человек переживает удивительно долгий период постнатальной беспомощности, что предрасполагает его подчиняться всему, что с ним делается, а это приводит к слепому подчинению авторитету, что открывает дорогу диктаторам и военным вождям. Человек отправляется на войну не ради удовлетворения своих индивидуальных агрессивных инстинктов, он отправляется воевать из слепой приверженности тому, что ему представили как благое дело. И опять же, язык – это охватывающее эпохи творение, которое может считаться величайшим достижением высшей нервной деятельности, содействует иррациональным, сеющим рознь элементам, которые выражают себя посредством войны. А еще язык, из которого вырастает высокое искусство, «ввиду его эксплозивного эмоционального потенциала, постоянная угроза выживанию».
Кестлер отвергает «редукционистский» подход, ту точку зрения на человека, которая превращает его в податливую материю Павлова или Скиннера. Зато он проповедует применение лекарственных препаратов:
«Медицина нашла лекарственные средства против определенных типов шизофренических и маниакально-депрессивных психозов. Уже не утопично считать, что она обнаружит комбинацию благотворных энзимов, которые дадут изокортексу возможность накладывать вето на глупые прихоти архаичного мозга, исправит вопиющую ошибку эволюции, примирит эмоции с разумом и станет катализатором прорыва от маньяка к человеку».
Каков бы ни был подход, какова бы ни была терапия, подобная точка зрения на человека как на больное существо высказывается совершенно искренне, а потребность в ком-то, кто исправил ситуацию, провозглашаемая как Скиннером, так и Кестлером, выставляется крайне настоятельной. Человек живет взаймы, требуется лекарство, ибо ночь наступает. Странно, но экспертами или подателями лекарства выступают сами люди. Можем ли мы взаправду доверять диагнозам и лекарствам этих буйнопомешанных существ? Но тут выдвигается предположение, что, хотя все люди больны, некоторые больны меньше других. Назовем удобства ради этих «менее больных» здоровыми и получим два вида существ: «мы» и «они». «Они» больны, «мы» должны их вылечить.
Как раз ощущение разделения на здоровых «нас» и больных «их» заставило меня написать в 1960 году короткий роман под названием «Заводной апельсин». Не очень хороший, на мой взгляд, роман – чересчур дидактичный, чересчур лингвистически эксгибиционистский, – но в нем воплотилось мое искреннее отвращение к расхожему мнению, дескать, одни люди преступники, а другие нет. Отрицание всеобщего наследия первородного греха характерно для обществ, живущих на островах, каким была Англия, и как раз в Англии около 1960 года респектабельные люди начали поговаривать о росте молодежной преступности и предполагать, прочитав кое-какие сенсационные статьи в кое-каких газетах, что молодые преступники, которые так расплодились (или такие буйные группировки, как «моды» и «рокеры», скорее игриво агрессивные, чем поистине преступные), недочеловеки и требуют нечеловеческого обращения. Тюрьма – для зрелых преступников, а от подростковых исправительных заведений мало толку. Безответственные люди говорили о лечении посредством выработки условно-рефлекторной реакции отвращения, о выжигании преступного импульса в зародыше. Если бы юных правонарушителей можно было – при помощи электрошока, лекарственных препаратов или чистых условных рефлексов по Павлову – лишить способности к антисоциальным поступкам, то наши улицы снова стали бы безопасны ночью. Общество, как всегда, ставилось во главу угла. Разумеется, правонарушители были не вполне человеческими существами: они были несовершеннолетними, они не имели права голосовать, они были очень и очень «они», то есть противопоставлены «нам», представляющим общество.
Сексуальную агрессию уже решительно выжигали из некоторых насильников, которым сперва приходилось выполнить условие свободы выбора, иными словами, предположительно подписать какой-то документ. До дней так называемого Освобождения сексуальных меньшинств некоторые гомосексуалисты добровольно подвергались смешанной позитивно-негативной психологической обработке, в ходе которой на киноэкране показывали попеременно голых юношей и девушек, а на стул подавались разряды тока или применялся успокаивающий массаж гениталий – согласно показываемой картинке. Я вообразил экспериментальное учреждение, в котором некий правонарушитель, повинный в каждом мыслимом преступлении – от изнасилования до убийства, подвергается условно-рефлекторной терапии и лишается способности замыслить, не говоря уже о том, чтобы совершить антисоциальный поступок, не испытывая при этом позывов к рвоте.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
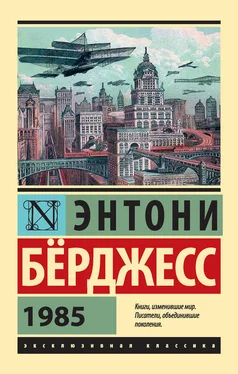


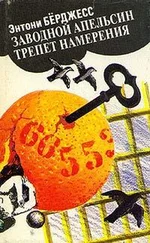

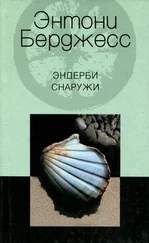
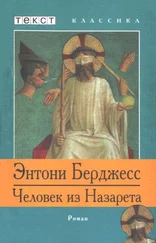

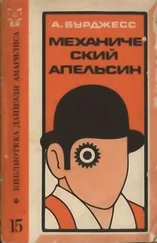
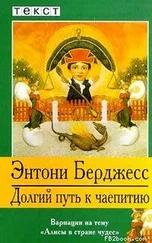
![Энтони Берджесс - Право на ответ [litres]](/books/396964/entoni-berdzhess-pravo-na-otvet-litres-thumb.webp)