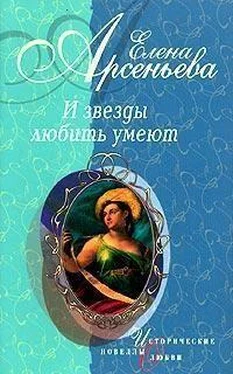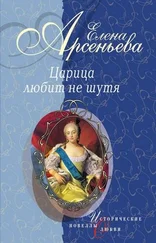Конечно, Варя красива. Греческая кровь ее предков со стороны отца придала ее чертам чистоту и классическую соразмерность, сделала ее волосы черными, словно вороново крыло, а синие, унаследованные от маменьки глаза и белая кожа придают ей особенную, «акварельную», как говорит влюбленный в Вареньку художник Вольдемар Гау, прелесть. Да, копии с ее портрета кисти художника (кстати, превосходного акварелиста!) выставлены в витринах книжных лавок и продаются нарасхват. И все же… Что значила бы ее нежная красота, не будь она оформлена необычной сверкающей рамкой — огнями рампы?
Варя все это прекрасно понимала. И это лишь усиливало ее страстную любовь к театру. И еще дальше уводило от обыденной жизни, где было слишком много печалей и разочарований, слишком много «нет» приходилось на одно какое-нибудь «да», где у нее не было ни малейшей надежды встретить холодноватый взгляд обожаемых голубых глаз, в которых вдруг просверкнет на мгновение благосклонная улыбка, смягчится суровая складка у рта — и Варя ощутит себя небывало счастливой, избранной, может быть, даже желанной…
Ей было легко оберегать свою добродетель от многочисленных ухажеров, однако в глубине души она знала: если бы только ее солнце сделано хоть один знак, от этой добродетели не осталось бы и помину. Варя с радостью отдала бы себя ему — так солнцепоклонник приносит жертву своему божеству. Но он только смотрел на нее, изредка оказываясь в Александринке: смотрел то приветливо, то равнодушно, даже не подозревая, что самое мимолетное его выражение возносит ее то к вершинам блаженства, то опускает в бездны отчаяния. Но именно в этих сердечных содроганиях состояло счастье.
Влюбленные во всем мире и во все времена убеждены, что таких чувств, коими обуреваемы они, не испытывал никто и не испытает никогда. А еще им кажется, будто все песни о любви, стихи, поэмы, романы, повести, новеллы созданы именно о них и для них. И Варенька подумала так, когда прочла пьесу «Эсмеральда», написанную по мотивам необычайно популярного романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Пьесу собирались ставить в Александринке.
Варя, конечно, читала модный роман — его все на свете читали! Любовь танцовщицы к ослепительному Фебу тронула до слез. Она мгновенно наделила обворожительного героя пьесы всеми признаками некоего реального человека и с восторгом принялась разучивать роль.
А между тем Варенька и представить себе не могла, какие, так сказать, копья ломались вокруг этой постановки.
В мае 1837 года император вызвал к себе министра двора князя Волконского и сказал:
— Я посмотрел присланный вами репертуар. В бенефис Каратыгиной идет «Эсмеральда». Это по роману Гюго? Да ведь роман о революции!
— Но, ваше величество…
— «Эсмеральду» необходимо из репертуара исключить. И вообще, князь, передай Гедеонову [6] Напоминаем, что Гедеонов был директором Императорских санкт-петербургских театров.
: все пьесы, переводимые с французского, должны быть представлены мне. Я уже говорил ему об этом.
— Но, ваше величество… там действие происходит в старые времена, если я не ошибаюсь, да к тому же бунтовщики несут наказание.
— Революция — всегда революция. Она может передаваться в виде намеков. Разве нельзя обойтись без этого?
Чрезмерную осторожность Николая относительно революции вообще и французских пьес в частности понять можно. Двенадцать лет назад, в декабре, он спас свое государство от погибели, от заразы вольнодумства, которой господа радетели за народ нахватались именно во Франции и которую приволокли в Россию, словно новую моду на галстухи и жилеты, на небрежные прически и лимбургский сыр, на убийство государей, радостно предвкушая реки и моря крови, которые зальют эту страну немедленно, как только начнется «русский бунт», который пугал даже легкомысленного циника Пушкина. Может быть, конечно, Пестель и иже с ним не ведали, что творили… но это вряд ли. Слишком уж старательно были разработаны их программы, предусматривавшие непременное убийство членов царской фамилии — всех, вплоть до маленьких детей. Именно твердость императора, только что взошедшего на престол, спасла тогда Россию от гибели [7] Вернее, отсрочила эту гибель почти на сто лет.
, однако опасение «французской заразы» не исчезло.
Впрочем, касательно пьесы «Эсмеральда» Николай Павлович явно перестраховался.
В Александринке собирались ставить весьма приблизительную инсценировку, принадлежащую немецкой актрисе Шарлотте Бирг-Пфайер и еще более приблизительно переведенную на русский язык Александрой Михайловной Каратыгиной. Гедеонов перечел ее и представил на суд министра двора следующее послание, объясняющее, почему столь невинная безделка вполне может быть допущена на императорскую сцену:
Читать дальше