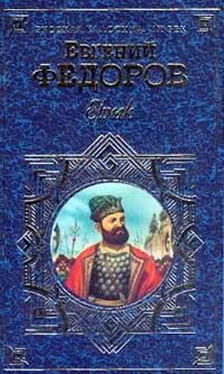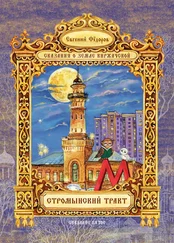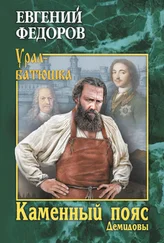— Охмень, аль я с тобой не бился плечо к плечу? Не ты ли меня научил первую стрелу с посвистом пускать? — голубые глаза кучерявого налились слезой.
— Вот потому и кривить не хочу! — Донец скинул шапку и поклонился кругу. — Браты, жалко золотой поры, но раз опоганил ее, нет к нему жалости. Казачество дороже одного злодея!
— Правильно, Охменя! Станичники, дави жабу!
Прокоп закрыл руками бугристое лицо. Упал на землю, хватал за ноги.
— Пощадите, казаки! Каюсь, хотел с Мулдышкой убить атамана. Не троньте, — всю правду скажу.
Дружинники с брезгливостью отталкивали его:
— По харе видна вся твоя правда. Зверь-зверем жил. Для своей похоти и жадности пошел с нами. Прочь, пакостник! — его стали пинать сапогами. Пронзительные крики Прокопа разожгли гнев. По кругу пошло:
— Бей сатану… Кроши!..
— Стой, браты! — крикнул атаман. — Без мучительства. За измену и злодейство — в куль да в прорубь…
— Бачка, бачка! — расталкивая казаков, закричал Хантазей: — Батырь, не надо так. Не хоросо…
— Да ты что? — удивился Ермак. — Да они твоих вогуличей побили, Алгу загубили. За кого просишь?
Хантазей протянул руки, на глазах блеснули слезы:
— Ой, дорог-мил мне Алга. Нет больсе Алги. Горе мне. Проклянут меня родичи, что навел в пауль чужих. Нет, не надо так. Пусти, — пусть живут. Ой, пусти их…
— Погляжу на тебя, овечка божья ты — Хантазей! Доброй души человек, но знай — в воинском деле есть честь и закон. Недруга бей, насильника вгоняй в землю. Волку и волчья встреча. Пожалеешь змею, — распалится пуще, затаит злобу.
— Бачка, не губи их! — умолял Хантазей. — Мне больно Мулдыска делал, не холосо Прокоп делал. Я простил их…
— Мы не отара, а войско! — отмахнулся от него Ермак и выкрикнул: — На смерть осуждаем, браты?
— На смерть! Вести их на реку! — неумолимо отозвались казаки. — Бери!..
Прокопа и дружков, подталкивая в спину, повели к омуту, к черной проруби.
— Ай-яй-яй! — заголосил Прокоп. — Ух, да ты что же это? Ай, ратуйте! — закричал он.
— Браты, пожалейте, — взмолился Яшка Козел и опустился в сугроб. — Не пойду, тут кончайте!
Его подняли и поволокли два дюжих повольника. Охменя нес четыре мешка. Провинившиеся донцы шли молча, глаза их были налиты страшной скорбью.
Вот и речной простор. Вертит водоворот в темной полынье. Донцы стали лицом к востоку, помолились:
— Ну, коли так, прощайте…
Прокоп и Яшка бились головами, выли и судорожно цеплялись. Связанных, их силой усадили в кули.
В последнюю минуту взмолились и донцы:
— Пощади, батька, отслужим вины!
Ермак отвернулся:
— Кидай! В самую глубь кидай!
«Не вернуть прошлого! Помиловал бы, вернул бы к жизни… Но нельзя — дело велит!»
Ермак закрыл глаза, чтобы люди не видели его слезы.
Над рекой засеребрился весенний воздух. Весело зашумела тайга. С глухим шорохом садился жухлый наст. Солнце все выше поднималось над кедрачом. С крыши застучала капель, вызывая на сердце томление. Отзвенели хрусталем сосульки, подрезанные лучами весеннего солнца. На березке маленькая синичка завела свою бодрую весеннюю песенку. Разошлись серые тучи и заголубело небо. Зачернели проталины, в избу на сапогах принесли первую грязь.
Ермак повеселел и встречал казаков шутливо:
— Сказывали, в Сибири зима тринадцать месяцев, да не выдержала, сдала. Эх, пора!
Пока скованная морозами река дремала, казаки поставили малые струги на полозьях, нагрузили их пушками, зельем, всяким запасом и по насту двинулись к Жаровле-речке. Многие грузы клали на слеги и волочили.
Впереди шел Хантазей. Он пел, а глаза были полны грусти.
Белокрылая Улетает зима, Скоро зашумит река. Эй-ла!
Звонкие мартовские дни отзывались голосистым эхом. На севере синела гора Благодать. По сторонам шли увалы, с них шумели вешние воды. Ночью в черном небе пламенели яркие звезды, пощипывал мороз. Грелись у костров. Вдоль волока продувал холодный ветер, но из тайги шли неясные волнующие шумы. Всем своим чутьем казаки ощущали великое пробуждение в природе: в темной бездне неба по-иному ходили облака, легкие, ласковые, в крутых горах ревели сохатые.
Устюжинский плотник Пимен, сухопарый мужик с длинными руками, признался Ермаку:
— Если бы ты знал, батько, что творится на душе: каждую весну тревожусь, как старый гусь на перелете, поминаю молодость. Одного жалкую — экие струги кинули у Кокуй-городка, на век ладили.
Глядя на его сильные, проворные руки, атаман улыбнулся:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу