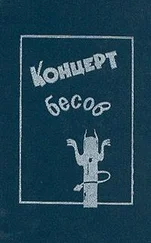Иронический образ Фрелафа как бы смягчает трагический сюжет и делает более разнообразной, более «разноцветной» психологическую палитру романа с ее излишне контрастной черно-белой гаммой. Именно в таких образах, как Фрелаф или Торопка, и проявилась присущая Загоскину черта, которую Пушкин определил как «добродушную веселость в изображении характеров».
В таком же ключе оценивает образ Торопа С. Т. Аксаков, отмечавший, что в целом «Аскольдова могила» имела гораздо менее успеха, чем «Рославлев». Зато, по его убеждению, «в сценах народных, принимая их в современном значении, в создании личности весельчака, сказочника, песельника и балагура, Торопки Голована, дарование Загоскина явилось не только с той же силой, но даже с большим блеском, чем в прежних сочинениях… Какая бездна неистощимой веселости, сметливости, находчивости и русского остроумия!» [21]
«Аскольдову могилу», по словам Аксакова, люди «благочестивые» ценили «выше всех других сочинений Загоскина». Это предпочтение легко понять. Ведь роман посвящен исторической победе христианства в древнерусском государстве. И тем не менее даже эта «апробированная» тематика, причем в интерпретации такого благонамеренного писателя, каким был Загоскин, вызвала придирки николаевской цензуры. При подготовке второго издания один из цензоров доносил в Московский цензурный комитет: «Всем известна благонамеренность автора и образ мыслей; но в течение 17-ти лет от 1-го издания весьма многое, что тогда было терпимо, ныне не может быть одобрено в печать…» Буйные речи Неизвестного будут для многих камнем преткновения и соблазна» [22].
В 1835 году на либретто Загоскина композитором А. Н. Верстовским была написана опера «Аскольдова могила», имевшая исключительный успех.
Итак, за четыре года Загоскиным написаны три серьезных исторических романа. Затем в этом жанре наступает почти что десятилетний перерыв. Причин творческого кризиса, думается, две. На слишком высокой ноте начался дебют Загоскина как исторического романиста. И неспособность его не только продвинуться дальше, но и удержаться на уровне своего знаменитого «Юрия Милославского» вызвала охлаждение к Загоскину у части читающей публики, писатель это чувствовал.
И по службе у Загоскина произошли значительные перемены. В 1831 году он в чине надворного советника становится управляющим конторой императорских московских театров, а еще через год в чине уже коллежского советника – директором московских театров и камергером императорского двора.
В 1842 году в чине действительного статского советника он переходит на более спокойную должность директора Московской Оружейной палаты.
Служебная карьера отразилась отрицательно на творчестве Загоскина исторического романиста, но литературную деятельность он не оставил. В 30-е годы выходят в свет такие значительные произведения М. Н. Загоскина, как историческая повесть «Кузьма Рощин», цикл «готических» повестей-рассказов «Вечер на Хопре», романы «Искуситель» и «Тоска по родине». В начале 40-х годов Загоскин возвращается и к столь прославившему его жанру исторического романа. Он пишет романы из истории XVIII века – «Кузьма Петрович Мирошев, русская быль времен Екатерины II» (1842), «Брынский лес» (1846) и «Русские в начале осьмнадцатого столетия» (1848). Последние два романа были посвящены Петровской эпохе. Надо сказать, что новые произведения Загоскина, несмотря на то что некоторые считали, например, «Кузьму Петровича Мирошева» лучшим его романом [23], к литературной известности автора ничего не прибавили.
Для одних Загоскин оставался старомодной литературной фигурой, пережившей свою славу. Белинский снисходительно писал, что «Юрий Милославский» был в свое время, без всякого сомнения, приятным и замечательным литературным явлением» [24]. Далее он пояснял свою мысль, добавляя, что, «конечно, первые романы г. Загоскина всегда будут удостаиваемы почетного упоминовения от историка русской литературы, и никто не станет отрицать их относительного достоинства для времени, в которое Они явились, и даже их более или менее полезного влияния на современную им русскую литературу; но из этого еще не следует, чтоб мы их читали и перечитывали, как творения всегда новые…» [25].
Снисходительность звучала и во мнении рецензента «Москвитянина», считавшего, что из литературы 30-х годов, которую он охарактеризовал как «литературу псевдоисторических романов и псевдопатриотических драм», «уцелели немногие писатели, а именно только два – Загоскин и Лажечников» [26].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
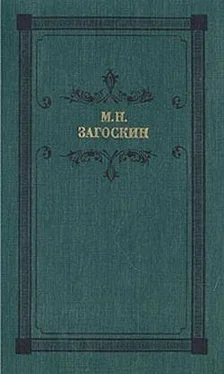






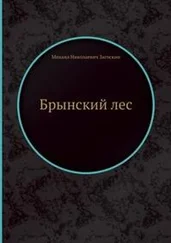
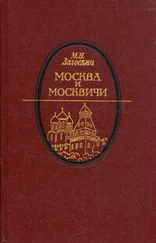


![Михаил Загоскин - Аскольдова могила [litres]](/books/416281/mihail-zagoskin-askoldova-mogila-litres-thumb.webp)