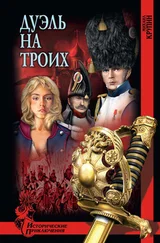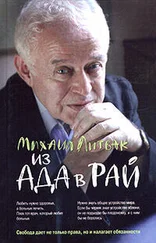На диких сакмах часто казакам встречались белые, выскобленные всеми силами степей кости с оловянными крестиками подле шейных позвонков: ордынцы ослабшего русского не довели-таки в вечное рабство. Так донцы убеждались в правоте и надобе своей гулёной службы. Оловянные крестики вернее всякого соборного обряда благословляли вольницу — обнадеживали насчет смертного пути.
У ворот двора князя Василия Шуйского чиновник Петр Басманов спешился и поручил слуге коня. Не для почтения к вельможному преступнику вступил он на подворье его пеш — с оскомины к праздным переполохам да еще из азарту, жившего во всяком, чуть осмысленном начальстве: крадучись бесшумно, застать все на местах, как оно есть — в тихий расплох.
Басманов пошел от ворот к терему чистой, полого возрастающей тропой, составленной из аспидного камня в елочку. К этой главной дороге двора отовсюду сбегались, почти не оставляя меж собой травы, замощенные досками и земляные, тропки важностью поуже. По ним и мимо, вдоль и поперек тропы Басманова, знай похаживали холопского звания люди: кто — баба с корзиной сырого белья и пустым ведром, кто — мужик с полными вилами, кто — малявочка с удочкой.
Примечая и даже узнав шагающего воеводу, челядинцы лишь кое-как — на угол — кивали ему и, поморгав еще рассеянно, брались за прежнее занятие. (Не привычна дворня Шуйского ломать колпак, ниц шлепаться ни перед каким чином чужим.)
«А впрямь, чего им опасаться? — не знал и Басманов. — Коли их князь виноват, так и будет казнен. Они, простые русские, его мыслишкам не рука. Им будет даден новый господин».
Воевода даже залюбовался небыстрым большим шествием, равнявшимся с ним. Но быстро не смог угадать его смысл. Посреди ватаги выступала, как плыла, юная баба в полотняном летнике — простом да с кумачовыми накалками и шелковыми вставками. Даже издалека молодка ясно выписывалась в свите — поступью, неизъяснимой лепниной осанки и чином лица.
Басманов приостановился, дивясь подплывавшей: «Ах ты, нерусская березка, тонкое стило… Да не будь ты за мужем кабальным, ей-ей, сам бы присватался! Ох, так и пишет тросточкой лебяжьей!! Пишет летопись лета московского — надежды вселенской!»
Около белого, подрумяненного тонко — точно вечерним солнцем — личика «березки» покачивались и сережки-одинцы в охристых бусинах. Шелестящий, как под неким ветром, строй приближался. И сыскному воеводе открылись и ее глаза.
Неподходящие к стекольным серьгам и монистам, глаза были сапфирны, и хоть не очень глубоки, зато близки, что небеса без облаков. А ветра-то, теплого ветра в них, младенчески-надменного доверия…
Руки молодки скрещены расслабленно над поясом: серо посвечивали на запястьях обручи. Басманов принял обручи сначала за дешевые браслеты, но, поравнявшись с собранием, не веря очам, опознал столь знакомую сталь двух колец, соединенных грубо склепанной цепочкой.
— Отряд! На камне-е… стой! — приказал воевода, едва косо закланялись ему сопровождавшие закованную женщину. — Вы пошто красную женку полонили? С вашего двора все, кто нужны, взяты — сам князь да дворецкий с ворами, — и неча вам тут боле умничать, проворство выражать!
— Ой ты, мой батюшка! — покачнула высоким убрусом пожилая жена, замершая от арестантки слева, в душегрее, обрывающейся раньше пояса. — Да не пужайся, батюшка мило-о-ой! Не пужайся, высокий стрелок! Мы ж змеюку прихватили не по вашему большому делу — у нас своя на ей татьба, бабская лютая!
— Отравила постылого мужа? Али полюбовника непостоянного изрезала? — изумлялся воевода, жмурясь на чистое, опасное, таинственно-счастливое личико виновной.
— Кабы-ы! — вызвалась беседовать другая женщина — в телогрее на кожаных лямках, пышно топырчатой над сарафаном. (Эта одежда шла шире и ниже души и, значит, прозывалась телогреей.) — Сии грехи покамест у нея, молодухи, впереди! Сикуха подзаборная инако меня оскорбила!
— Ну, мужика, что ль, твоего совратила? — хмурился Басманов.
— Да кабы всего-то делов, разе б я ее на суд влекла? — дивилась баба. — Чай, у мерина мово в штанах не убыло бы! Нет, батюшка, каверза скверней!
Басманов обратился к обвиненной:
— В чем же грех твой, жено, молви. Перед тобою — голова всея сыскной службы, — приосанился и спохватился: — Голова, конечно, не опричная-собачья, а разборчивая. Ты меня не бойся.
Молодица потупила очи и чуть приоткрыла несмело еще припухшие от детства вишенки-уста…
Но ждать не могла, уже подхватила свое недосказанное телогрея справа:
Читать дальше