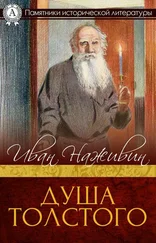– Батюшки, родимые, кормильцы… – назойливо ныл Митька. – Убогенькому-то Христа ради…
Его давняя мечта – благодетелю нож в бок, а лебедушку белую в леса темные – давно рухнула, и потому пьяный он всегда теперь плакал, что нет и нет вот ему в жизни талану. Он с злобной радостью узнал об опале князя Василия, снова появился в Кремле и не давал никому проходу, а чуть что не по его, злой как черт, крыл прохожих самою неподобною лаею, но так как, будучи нищим, он находился под особым покровительством Христа, то его не трогали…
А в высоком терему осиротевших палат князя Семена, от всех запершись, без кровинки в лице сидела красавица Маша. В ней сразу рушилось все. Если такое на земле может быть, так все в ней ложь: и соборы эти златоглавые, и сказки небылые про Иисуса милосердного и про Мать Его, будто бы всем Заступницу, ложь и попы в одежде золотой, ложь и государь будто бы милостивый, ложь все…
Дьяк Бородатый даже слег. Да, конечно, прекрасна Русская земля, как хорошо сказывал тферьской купец Афанасий Никитин, да, надо строить ее для благоденствия и славы, не покладая рук, но это… неужели же в самом деле все это нужно для устроения ее?!
И он прохворал до самой весны…
Мать Серафима лежала на полу у себя в келии пред образами… Это была не молитва. Это была неподвижная бездна боли. С того вечера, страшного и восхитительного, когда она впервые узнала счастье любить и черное горе в один миг это счастье потерять, она ни одной минуты не раскаивалась в том, что нарушила свои обеты, – она раскаивалась в том только, что не нарушила их раньше. Она и на мгновение не могла теперь признать, что, приласкав и пригрев душой ею же измученного любимого человека, она совершила какой-то грех. Ей непонятно и чуждо было то ее прежнее состояние, когда она, в ужасе перед грешной любовью, забилась в крепь монастыря, а его оставила одного мучиться в мире. Точно кто-то сорвал вдруг с глаз ее и с души какие-то проклятые покровы, она вздохнула душистым, вольным ветром жизни, раскрыла крылья, чтобы лететь, но – лететь было уже некуда, не к кому, незачем…
Москвитяне думали сперва, что князья Патрикеевы тоже будут казнены, но казнь была заменена им пострижением в монашество. По Москве был пущен слух, что то митрополит Симон отмолил им жизнь у грозного государя, и москвитяне умилялись и над добрым митрополитом, и над милостивым государем. То, что на князя Василия силой надели черную мантию, Стешу не страшило: она знала теперь, что ее легко сбросить даже тогда, когда она надета добровольно. Правда, теперь задача соединить их жизни много труднее: за ним, по крайней мере первое время, будут зорко следить. Но если она заставила его прождать чуть ли не полжизни, почему же теперь она, виноватая во всем, не может искупить свою страшную ошибку тоже ожиданием?
Она знала, что все препятствия можно победить, но то, что случилось в саду, этот жуткий холодок, который она в нем вдруг почувствовала едва уловимо, надломил ей крылья, и вот она лежит перед Пречистой без молитвы, скорее по привычке, как лежала, бывало, она раньше, в минуты огневых искушений, когда он, любимый, единственный, звал ее во тьме ночей за собой… И она все старалась уверить себя, что этот холодок жуткий ей помстился, что этого совсем не было и что впереди перед ней все же радость и свет.
В дверь легонько постучали…
Она торопливо встала, наскоро привела себя в порядок и, подойдя к двери, отворила. В коридоре стояла одна из сенных девушек Холмских, Даша.
– Я за тобой, матушка… – поклонилась она. – Иди домой поскорее: Ненилушка наша помирает и проститься тебя зовет.
– Господи, помилуй… – перекрестилась Стеша. – Что с ней?
– Не знаю… Только совсем плоха…
– Погоди минутку – я только матушке игуменье скажусь…
Она исчезла в пахнущем ладаном коридоре и скоро вернулась.
– Пойдем…
Привратница с поклоном выпустила их за калитку, и сразу мать Серафима замерла: в нескольких шагах, навстречу им, шли по улице два высоких монаха. То были князь Василий с отцом. Одно мгновение, и короткое, и бездонное, Стеша и Василий смотрели один другому в глаза, в самую глубь души. Они молчали, но глаза говорили так, как могут говорить только глаза: включая в секунду вечность. И ее милые, голубые глаза сказали ему, что он для нее по-прежнему все, что она вся его, что, глядя на него, нового в этой черной одежде, она обмирает в ужасе, но знает, что стоит ему захотеть, и они будут вместе; а его полные горечи, слегка косящие глаза, точно похоронными звонами какими, говорили ей, что хоть и люба она ему, как никто, но скорбная сказка долгой любви их оборвалась, умерла в отравленной душе его, что впереди только холодная пустыня, что черный куколь и мантия – это, может быть, лучшее для души его, что он для жизни живой и теплой – мертв. И не то что князь Василий не верил счастью с ней, нет, он вдруг узнал, что веру в счастье для человека вообще он потерял уже давно, а может, по-настоящему и никогда не имел ее, что свидание в саду только раскрыло ему окончательно, что на дне кубка жизни – горечь полыни и ничего больше. Ему вдруг почудилось, что он жив только злобой к жизни, жив назло жизни, только для того точно, чтобы отравить ее еще больше и себе, и другим. И она поняла, что тот холодок, который она с ужасом почуяла в саду, не приснился ей, а что это только и есть, это только и осталось…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
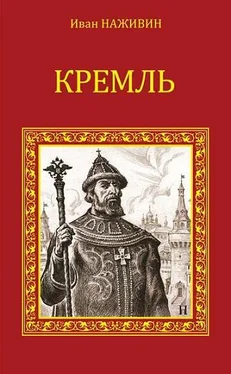
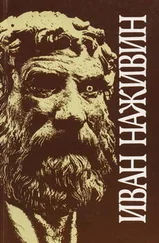
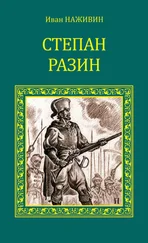
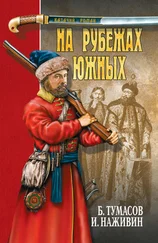
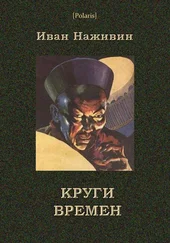


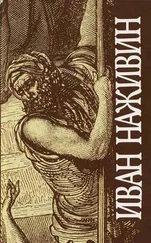

![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)