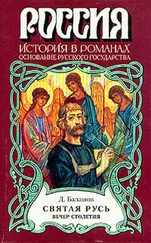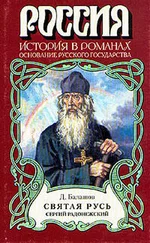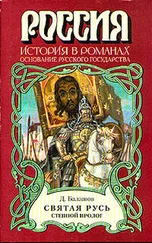Остались гимны, некогда пересланные на Русь, осталась память его прежней дружбы с Алексием, ибо осталась память этого далекого русского мужа, свершившего то, что свершить удавалось зело немногим: создавшего великую страну, в череде ближайших веков расширившуюся до пределов одной шестой части обитаемой суши.
А что свершил, что оставил после себя он, Филофей? Но и мог ли оставить, ибо был и жил, в отличие от Алексия, не на восходе, но на закате бытия своей некогда тоже великой империи и вся его со тщанием сплетаемая паутина государственных и церковных союзов, охватившая Сербию, Болгарию, Валахию, Русь и Литву, "на ниче ся обратиша" при первом же суровом ветре государственных перемен, первом же заговоре, устроенном властными иноземцами.
На патриарший престол был назначен (не избран собором, а именно назначен Андроником!) митрополит Севастийский Макарий, по-видимому устраивавший генуэзцев много более Коккина.
А теперь вернемся на полгода назад, на Русь, и поглядим на тамошние дела.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Русская рать ушла к Булгару, успокоившаяся Москва, справив Масленую, встретила Великий пост и теперь ожидала возвращения своих победоносных ратей. Пасха в этом году была тринадцатого апреля, но уже за две недели до того дошла радостная весть о победе под Булгаром.
Кажется, какая связь меж ратным одолением на враги и делами сугубо церковными? Но, получив жданную грамоту от Боброка, Дмитрий, во все недели поста не находивший себе места, тут и решился наконец. Он вызвал Митяя к себе и встретил его необычайно торжественно.
Князь стоял широкий, плотный, в белошелковом, шитом травами, расстегнутом домашнем летнике с откинутыми рукавами, в чеканном золотом поясе сверх узкого нижнего рудо-желтого зипуна. Непокорные волосы крупными прядями падали на золотое оплечье. Рубленное топором, крупное, бело-румяное лицо князя в кольцах молодой русой, вьющейся бороды было вдохновенно-величественным (и — кабы не был он великий князь владимирский и московский — то и немножко смешным), правая рука часто и непроизвольно сжималась в кулак. Хмуря брови и весь, мгновеньями, заливаясь неровным алым румянцем — верный признак того, что князь излиха волнуется, — Дмитрий, не садясь и не усаживая печатника своего, начал:
— Первый раз мы отбились!
И Митяй, порешив было, что речь идет о булгарской войне, вздрогнул и, не враз сообразив, о чем княжая толковня, в свой черед багрово и густо покраснел, медленно склоняя бычью шею, осененную густою гривою темных, обильно умащенных и спрыснутых восточными благовониями волос.
— Так, княже… — произнес с расстановкою, ожидая, но все еще не вполне догадывая о главном.
— И этот литвин Киприан, и прочая! — еще прямее и тверже высказал князь. И вновь помедлил и, густо заалев, докончил: — Нам надобен свой наместник по батьке Олексею. Егда умрет! Думаю — тебя! — И проговорил быстро: — С боярами баял уже!
Митяй стоял склоня голову. Кровь ходила толчками, и сам чуял, как у него багрово заливает лицо и пот росинками выступает на висках.
— Посему! Должен принять постриг! И делаю тебя архимандритом Святого Спаса!
Княжого монастыря столичного. Под боком, за палатами князя, вплоть. Тут воля Дмитрия, и сам владыка Алексий не скажет противу… Все это проворачивалось в мозгу Митяя, рождая вожделение и страх: Алексий еще не умер, и когда еще умрет этот бессмертный сухой старец с ясною не по-старчески головой? И на миг до того стало жаль расставаться со своим званием бельца. Хоть и давно уже овдовел коломенский поп, забыл, как и жили с женой, хоть и не страдал похотными позывами, разве чревоугодием грешил излиха, а все же в черное духовенство, в монашество, отсекающее все плотское, земное, единожды и навек… Не хотелось! Так не похотелось вдруг! Словно и грядущая власть, и заступа княжая стали не сладки. Но престол духовного главы Руси Великой! Но слава, но почет! Но воля княжая, отступить которой значило потерять все… И поднял чело Митяй, в поту, как в росе, и жарко стало ему под облачением, и вес драгого тяжелого креста наперсного почуял вдруг, и вес тяжелого перстня с печатью.
— Так, княже! — сказал, повторил, охрипнувши враз. И очи возвел, и вопросил с просквозившею последней робостью: — Должен благословити мя и сам владыко?
И князь охмурел ликом, и сурово и грубо стало рубленое крупноносое лицо, и, упрямо набычась, отверг, единым словом перечеркнув страхи печатника своего:
— Уговорю!
Читать дальше