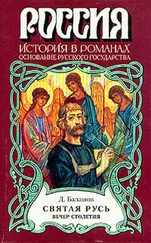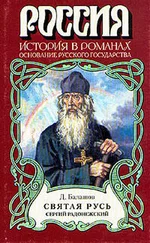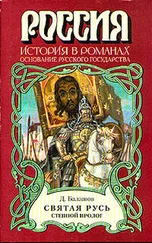Страшен час в жизни народа, когда отпадает одна вера и еще не привита другая! Когда нет обязательной морали, а есть мораль только к случаю и по поводу. (Вроде "классовой морали", прикрывающей полный аморализм.) Страшен, ибо не на кого опереться, не к чему, ни к каким нерушимым символам не можно воззвать. Трудно найти приверженца, друга, даже единомышленника… Найдись в потомках Ольгерда с Кейстутом двое таких, каковы были Кейстут и Ольгерд, и как знать, не по-иному ли потекла бы вся дальнейшая история Литвы?
И вот от могучего войска, от верной победы оба, отец и сын, направляются с горстью дружины в Вильну, заключать "нерушимый договор". О чем они думали? О чем думал Витовт, который едет со всею семьею, со своими сокольничим и поваром? Смешно! И горько. У всех ворот Вильны — немецкая стража. В верхнем замке сплошь — Ягайловы прихвостни. Отца с сыном хватают. Заковывают в цепи. Разводят поврозь.
Кейстута тотчас, боясь народного мятежа, отсылают в кандалах в Крево, под надзор тамошней челяди. С ним лишь один слуга, допущенный к обслуживанию своего господина, и более никого. Прочие или отступились, или перебиты.
Витовта сажают в угловую башню Виленского верхнего замка. Сквозь крохотное, забранное решеткой оконце видна лишь воздушная твердь над страшным провалом вниз, к изножью горы, над пропастью.
И все-таки это семейное дело, свое, внутреннее! Для пристойного вида Витовта разрешают навещать жене со служанкою. Ибо город взволнован, и войско, неодоленное, ропщущее, стоит за Троками и ждет, теперь уже неизвестно чего. И некому их сплотить и повести на бой, выручать своих предводителей, тем паче что слухи один другого диковинней. Кто говорит, что Кейстут с сыном арестованы, кто — что уряжен мир и они пируют в княжеском замке… А время идет, и воины, не бившиеся, начинают потихоньку разбредаться по домам. Многие бояре подкуплены и тоже не держат ратных, не собираются к бою. Поразительно это! Пожалуй, поразительнее всего! Ведь они шли с ним и за ним, шли с Кейстутом! Но… были бы там, в Вильне, одни немецкие рыцари… Но Ягайло все же великий князь! Головы идут кругом, и армия распадается, не бившись. Не будучи одоленной. Не потребовав от Ягайлы хотя бы узреть господина и предводителя своего!
А что же Кейстут? Многажды уходивший из плена, змеей уползавший из вражеского шатра, Кейстут, коего не держало никакое железо, никакие стены, что же он? Или годы уже не те и силы не те, или надломился дух старого воина? Он позволяет довезти себя, закованного в цепи, до Кревского замка, позволяет всадить в подземелье… Чего он ждет? На что надеется при таковом племяннике? Или уже и сам решил умереть, сломленный мерзостями окружающей жизни? Или ждал суда, прилюдного разбирательства дела своего? От кого ждал?!
Он сидит в подземелье четверо суток. За четверо суток тот, прежний Кейстут давно бы ушел из затвора. Тем паче что при нем слуга, Григорий Омулич, русский. Любимый и верный, не бросивший господина в беде и, в отличие от Кейстута, не закованный в цепи. Что произошло со старым рыцарем? Быть может, он перестал верить и собственному сыну Витовту и потому хочет умереть? Ибо, ежели изменяет сын, взрослый сын, твоя плоть и кровь, твое продолжение во времени, жить уже не стоит и не за чем… Все так! И все-таки почему?
На пятый день четверо Ягайловых каморников, верных ему и готовых на все: Прокоша, Лисица, Жибентий и Кучук (последний из них — крещеный половец, а Прокоша — русич, преданный Ягайле "до живота"), теснясь, спускаются по витой каменной лестнице, отпирают железную дверь, входят в сводчатую сырую камору. Они в оружии, и Григорий, поняв все, кидается на них с голыми руками: схвативши скамью, сшибает с ног Жибентия и тут же падает, пронзенный саблями.
Кейстут смотрит молча, не шевелясь, но тут, при виде лужи крови и умирающего слуги, кричит высоко и страшно:
— Прочь! Псы! — И такая сила в голосе закованного рыцаря, что те отступают поначалу и, только почуявши плечами друг друга и вновь охрабрев, кидаются на него.
Борьба, подлая, гадкая, когда четверо валят одного старика, причем закованного в кандалы, заламывают связанные цепью руки и наконец, прижав к полу, давят, обматывая сухое старческое горло золотым шнурком от его же собственного парадного бархатного кафтана. Давят, навалясь, слушая предсмертные хрипы, следя вытаращенные, вылезшие из орбит глаза. Давят и, наконец додавив, когда уже и тело, обмякнув, перестает дергаться и вздрагивать под ними, встают, тяжко дыша. И Прокоша первый говорит вслух:
Читать дальше