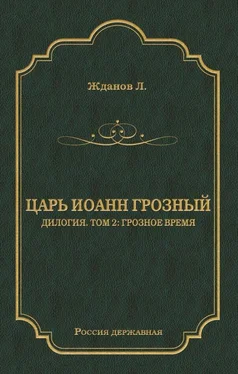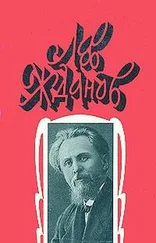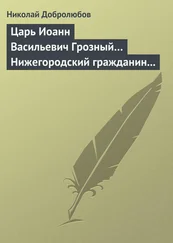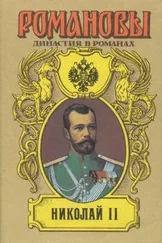– Чего раздумывать? – упрямо проворчал Сильвестр. – Думано уж да передумано. И вкруг царя – не медом мазано! Все того же лесу кочерги. Уж я порешил – не переделывать стать. А ты, вижу, владыко, отсыпаешься от нас? Жаль! Все время заодно шли…
– Ни от вас я, ни к вам. Я не думный боярин, не советчик земский. Я – Божий слуга, за всю Землю смиренный богомолец. Всегда то было, так и останется. Как Бог решит, так и я буду…
– Ин и то ладно, ежели хоша мешать нам не станешь! – толкуя по-своему слова Макария, произнес Сильвестр. – Благослови прощаться. Пора уж нам.
– Бог благословит! – осенил обоих крестом Макарий, и гости, покинув горницу, озабоченные, задумчивые, медленно стали спускаться по ступеням митрополичьего крыльца, не обмениваясь между собой ни звуком.
А Макарий, поглядев им вслед, с сожалением покачал головой и зашептал:
– Горячие кони, добрые, да неоглядчивые. Занеслись, заскакалися… не быть добру! Обуздать теперь их надобно! Господи, прости мое прегрешение. Ты зришь сердце мое. Не для себя – для земли, для царства – и грех приходится брать на душу порой… И лукавить, и земными делами заботиться…
И, обратясь к образам, висящим в углу, Макарий стал горячо творить молитвы.
Через несколько минут, подойдя обратно к столу, он уж протянул руку, чтобы дернуть точеную рукоятку со шнуром, которая вела к колокольчику, призывающему служку, – как вдруг за дверью раздался голос его, быстро произносивший обычное «Господи Иисусе…» – и затем сейчас же возгласивший в приоткрытую дверь:
– Государыня, великая княгиня жалует!
Распахнулась дверь, и в сопровождении двух ближних боярынь в келью Макария быстро вошла Анастасия.
За время болезни Ивана она часто навещала владыку, только здесь и находя облегчение безысходному горю своему.
Но приход царицы в такую раннюю пору был очень необычаен. Да и вид у нее был слишком взволнованный. Невольно, вместо приветов и благословений, Макарий поспешно спросил:
– Что случилось, княгинюшка, дочка моя милая? Али царю твоему плохо? Жив ли еще? Не может того быть, чтобы… Мне знать дадут первому, позовут для святой исповеди, для… Да что приключилось, сказывай.
Царица, жестом дав знать боярыням, чтобы те ушли в переднюю, вдруг заплакала и закрыла руками лицо. Но видно было, что краска пурпуром заливает это миловидное, исхудалое, кроткое лицо.
– Сядь, сядь, милая! – с чисто отеческой лаской, усаживая царицу, заговорил Макарий. Налил в ковшик из жбана, стоящего в стороне, дал пить Анастасии.
Сделав несколько глотков, царица пришла немного в себя и дрожащим голосом заговорила:
– Пришла я к тебе, владыко, а сама не знаю, почто и зачем? Что сказать, как начать? И ума не хватает. Слов не подберу. А пойти – надобно, больше не к кому и кинуться…
– Пришла, стало, Бог привел. Зачем? – узнаем сейчас. Слов не подбирай. Говори, как само скажется. Стар я… отец твой духовный. И знаешь, дорога ты мне, словно родная дочка. Не царицу я чту – люблю в тебе душу твою кроткую да чистую. Ежели жив царь, значит, иное горе? Обидел тебя кто? Али княжич наш захворал, храни Господь? Что там стряслося? Ну-ка выкладывай. Все обсудим, горю поможем с Божьей помощью…
– Ох, уж скажу… Стыдно, страшно… а скажу…
– Фу-ты, господи, – с тревогой заговорил Макарий, – стыдно? За кого же? Не может быть того, чтобы за себя. Быть того не может в жизни. Так за кого же? Скорее говори. Не пытай меня, старого… За кого стыдно тебе? Страшно кого?
– Его… – проговорила вполголоса Анастасия. – Алексея… Адашева…
– А, вот оно что! И ты доведалась? Ну, успокойся. Был он сейчас у меня, толковали мы… Сдается, Бог наведет на ум парня. А не наведет – мы и сами кой-что сдела… Да постой, погоди… Ты не только о страхе али о кознях вражеских поминала… О стыде толкуешь что-то? Чего стыдно-то тебе? Говори, дочка моя о Христе, государыня милая. Не алей, не соромься! Не мужа-мирянина зришь пред собою – пастыря духовного… старика древнего… Ну… ну…
И он даже стал гладить по волосам Анастасию, дрожащую от смущения, как гладит отец маленькую дочь свою.
Не глядя, опустив глаза, кое-как могла рассказать царица все, что случилось в ее покоях, у колыбели Димитрия, когда пришел от заутрени туда Адашев.
И чем дальше говорила она, тем сильнее омрачалось светлое, ласковое сперва лицо архипастыря.
Кончила она – и воцарилось долгое молчание.
– Так, так, так… – произнес наконец Макарий. – Вон оно куды метнуло… Э-хе-хе!.. Окаянный-то, окаянный – что творит с душами людскими, богоподобными?! Спаси Христос, защити, Многомилостивый!
Читать дальше