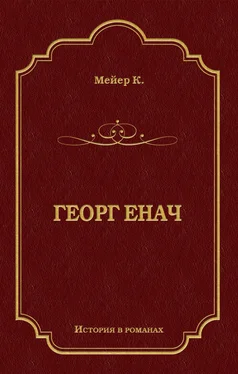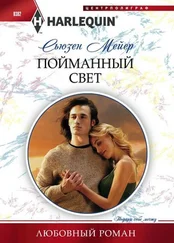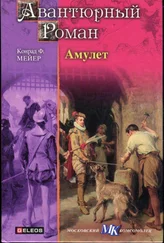Последний университетский год, рассказывал Енач, он провел в Базеле, а затем вернулся домой в Домшлег. Там он застал отца на смертном одре. После смерти старика жители Шаранса единодушно выбрали его в пасторы, хотя ему было тогда всего восемнадцать лет…
В Ридберге он был один только раз, причем, конечно, сцепился с Помпеусом по поводу политических вопросов, и они горячо поспорили. Ничего личного в споре этом не было, но оба почувствовали, что дальнейших встреч лучше избегать. Когда начались первые вспышки недовольства против Планта, он успокаивал народ с амвона. Он еще думал тогда, что лица духовного звания не должны вмешиваться в политику. Но смута усиливалась, опасность росла, а у государственного руля не было надежного лоцмана, и жалость к людям взяла в нем верх над всеми другими чувствами и соображениями. Пресловутый суд в Тузисе он считал кровавой необходимостью, содействовал образованию этого народного судилища и даже указывал ему на его очередные задачи. Осуждению же Планта он ни содействовал, ни препятствовал – то был единодушный вопль возмущения всего населения.
Разговор перешел на политические вопросы, хотя Вазер и пытался было перевести его на личную жизнь Енача. Его ошеломлял и возмущал подход Енача к задачам европейской государственной науки, которую он сам долго и ревностно изучал. Его пугала дерзость и легкость, с которой Георг решал самые сложные вопросы. Решение этих вопросов он считал очень трудной, сложной задачей, торжеством дипломатии, предполагающих много усилий. За все время этого оживленного спора ему один только раз удалось вставить робкий вопрос: жила ли в Ридберге Лукреция, когда в Домшлеге начались смуты? Лицо Георга мгновенно потемнело, как накануне ночью, и он коротко ответил:
– Да… только в самом начале… Ей было, бедной, очень тяжело… Это преданное, верное сердце… Но не мог же я связать себя с ребенком… да еще с дочерью Планта! Все это вздор, пустые бредни… Ты видишь, я сумел положить этому конец…
Он яростно пришпорил своего мула, и испуганное животное унесло его вперед. Вазер с трудом сдержал своего мула.
В Арденнеони остановились у домика пастора, но двери оказались запертыми на ключ. Блазиуса Александра не было дома. Енач, бывший здесь, по-видимому, своим человеком, обошел дряхлый домик, нашел ключ в дупле старого грушевого дерева и вошел вместе с Вазером в комнату Александра. Окна выходили в густой, запущенный сад, и в комнате стоял зеленовато-сумрачный свет. Кроме длинной скамьи вдоль стены и источенного червями стола, на котором лежала большая Библия, в комнате другой мебели не было.
Недалеко от этого духовного оружия выглядывало из угла и мирское – старинный мушкет, над которым Енач повесил привезенную Вазером пороховницу. Затем, вырвав листок бумаги из записной книжки Вазера, Георг написал: «Благочестивый цюрихский гражданин ждет тебя сегодня вечером у меня. Приходи и укрепи его в вере». Записку он вложил в Библию, раскрытую на книге о Маккавеях.
Солнце уже знойно горело, когда Енач показал своему спутнику на грозный силуэт крепости, поднимавшейся из широко раскинувшейся долины Адды, – чудовище, как он называл ее, протягивавшее одну руку к Киавенне, а другую – к Вальтеллине. На дороге за холмами стлалось длинное облако пыли. Острые глаза горца разглядели длинный обоз, из чего он вывел заключение, что Фуэнте снабжается провиантом и готовится, по-видимому, к продолжительной осаде. А между тем в Граубюндене говорили, что свирепствовавшая там болотная лихорадка унесла добрую половину гарнизона и что испанцы считают пребывание в крепости равносильным смертному приговору. Слухи эти подтвердил Еначу и один молодой подпоручик, который заболел в крепости. Во избежание бесславного конца он отпросился в отпуск для лечения горным воздухом и провел две недели в Бербенне, где жил Енач. Он привез с собой новую испанскую книгу, чтобы скоротать дни отдыха, такую забавную книгу, что ему совестно было наслаждаться ею одному, и он дал ее почитать и молодому пастору. Енач произвел на него приятное впечатление, и он полагал, что пастор, хорошо владевший испанским языком, сумеет оцепить по достоинству эту веселую книжку, этого восхитительного «Идальго Дон Кихота», – так называлась книга, оставленная в Бербенне офицером. Енач и решил использовать его сегодня как ключ к испанской крепости.
Ворота крепости распахнулись перед первой партией обозных возов, и Енач погнал скорее своего мула, рассчитывая, что теперь им удастся без больших затруднений проникнуть в крепость. Но, подъехав ближе, они увидели перед собою на подъемном мосту испанского офицера, сухого как жердь, с желтым, изможденным лицом: лихорадка оставила на нем одни лишь кости да кожу… Он недоверчиво смерил их обоих глазами, обведенными широкими темными кругами, и на учтивый вопрос Енача о здоровье его молодого приятеля отрывисто бросил:
Читать дальше