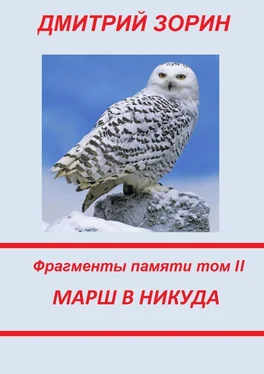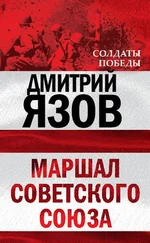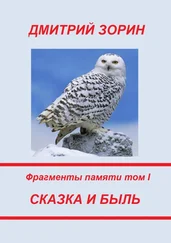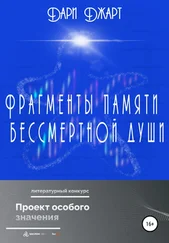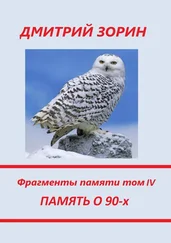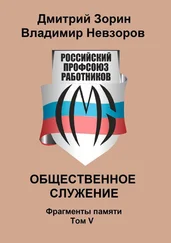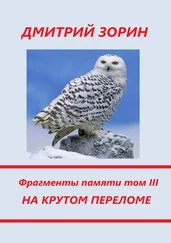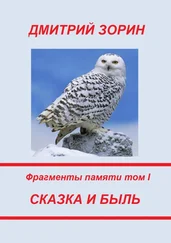Возможно, на мою работу оказывают влияние моя многолетняя педагогическая и воспитательная практика и жизненный опыт. Возможно, этим вызваны мои, как покажется отдельным читателям «ненужные излишества» но я, будучи привержен принципу: что если опыт жизни моего поколения, хоть кому-то окажется, полезным, стараюсь рассказать о нём. Вся наша семья, включая наших родителей, искренне радовались появлению на свет нового члена семьи, но самым счастливым человеком была моя жена. Хотя она скрывала свои мысли, но всем окружающим было понятно её неуёмное желание как можно быстрее родить ребёнка, даже когда роды угрожали её здоровью. Она стремилась укрепить семью, и все к этому относились с пониманием и сочувствием, о чём я уже упоминал выше.
Моя жена хотела назвать сына Димой, в память об умершем до этого после родов ребёнке, которого тоже тогда назвали Димой в честь моего деда, революционера-большевика, о котором я писал в первой книге.
Это, как про себя считала моя жена, должно было укрепить нашу семейную базу. То, что она именно к этому страстно стремится, не для кого из окружающих не было секретом. Это было её право, и все относились к этому с уважением и пониманием. Так как мы ещё раньше условились, что если будет мальчик, то право на имя получаю я, а если девочка, то имя ей будет давать семейный совет, то ни у кого не вызвало удивления имя Костя, которым мы назвали ребёнка. Память о погибшем на фронте отце была для меня и моего брата священна. Я думаю, что это свойственно всем нашим сверстникам, потерявшим в войне своих родных и близких. Именно в наших детях как бы возрождались погибшие в Отечественной войне наши родные, кому не суждено было стать для них дедами, бабушками и другими положенными в этих случаях родственниками. Как многие утверждали, мальчик уродился в Зориных, и мне очень хотелось в это верить. Это был черноглазый с чёрными волосами смуглый бутуз с ямочками на щеках и двумя точками на складке подбородка свойственными его отцу и деду, которому не суждено было его узнать.
Конечно, появление нашего совместного ребёнка наполнило нашу жизнь новым содержанием, новыми заботами, новыми планами. Я вообще не имел опыта обращения с грудным ребёнком, а у моей жены он был очень ограничен. Дело в том, что выхаживанием её первенца занималась бабушка, её мама, к которой он был привезён с трехмесячного возраста и через два месяца оставленном у неё дочерью, так как молодой маме надо было заканчивать учёбу в техникуме. Студенческие общежития не были приспособлены для проживания одиноких мам с детьми, тем более с грудными детьми. Мы тогда ещё не были с нею близко знакомыми, и о нашем союзе даже не мыслилось, хотя это было не за горами, где-то около года, но в, то время каждый жил своей жизнью.
На тот период моя мама работала, и в полной мере помогать нам в уходе за ребёнком не могла. Поэтому для решения этой проблемы жене надо было или идти в отпуск без содержания на работе и в академический отпуск в институте, или брать на первых порах няню, а потом отдавать ребёнка в заводские ясли. Мы склонились ко второму варианту и наняли няню, которая поселилась у нас, и нас уже стало четверо.

Гордая бабушка, наша с братом мама со своими внуками Юрой и Костей. 1964 г.
Юра, старший сын, оставался пока у бабушки на Украине, и взять мы его смогли только на следующий год, когда он достиг детсадовского возраста. Через год, получив место в яслях, которые располагались в двухэтажном деревянном доме, напротив нашего барака, мы расстастались с няней. Этому способствовал один случай. Как-то забежав, домой среди рабочего дня, когда меня обычно не ждали, я стал свидетелем действия выражавшегося в вылизывании няней лица нашего ребёнка языком. Язык её мне показался невообразимо большим, а личико сына маленьким. Я в бешенстве выхватил ребёнка из её рук и потребовал объяснения её действий. Она стала плакать и жаловаться, что ребёнок очень беспокойный, что мы приучили его к рукам, и у неё нет сил, целый день качать его на руках и что это народное средство, успокаивающе действующее на детей грудного возраста. Меня это несколько смутило, но не сняло настороженности, и я стал пристальней приглядываться за действиями няни. Я привёл этот пример, чтобы показать читателю бытующие в наше время приёмы ухода за новорождёнными детьми. Няня была преклонного возраста малограмотная деревенская женщина, старость которой была социально мало обеспеченной, что было для одиноких людей, проживающих в сельской местности, уже не способных вести своё хозяйство для того времени явлением не редким. В общем-то, особых претензий у нас к ней не могло быть. Она как могла, старалась, но видимо отсутствие собственных детей и преклонный возраст, а уход за детьми это тяжёлый труд, вынуждали её применять некоторые хитрости, которые не могли устроить нас. Например, я стал замечать, что она, чтобы успокоить ребёнка начинала сильно качать коляску и буквально укачивала ребёнка. Глаза у него закатывались, и он не то что засыпал, а создавалось впечатление, впадал в состояние беспамятства. Причём это состояние было кратковременным, и он вскоре опять начинал вести себя беспокойно, а она опять начинала его «убалтывать». Всё это ускорило наше расставание. Считаю необходимым отметить, что и сегодня можно наблюдать подобную описанной мною выше картину, когда молодые мамы трясут, а не укачивают своих новорождённых детей. Хочется им напомнить, что это чревато серьёзными неприятными последствиями для здоровья ребёнка. Поэтому я и счёл необходимым привести пример из своей жизни.
Читать дальше