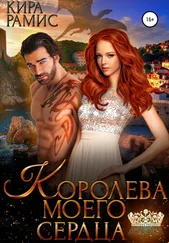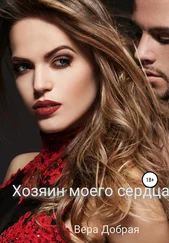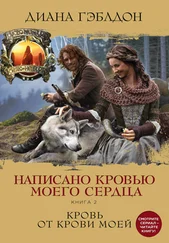Ресторан постепенно превратился в буфет, который тоже долго не просуществовал: очевидно, наличие заурядной забегаловки на территории Суворовского училища никак не способствовало укреплению воинской дисциплины. Помещение некоторое время пустовало. В нём изредка устраивали киносеансы для детей с помощью кинопередвижки. Точно помню, что именно там я первый раз смотрел «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров».
Около 1950 года сюда перевели военторговский магазин, располагавшийся до того в тесноватом помещении на первом этаже в первом подъезде дома № 6. Новый торговый зал магазина отремонтировали, после чего панели засверкали модной тогда раскраской «под дуб». Тогда же устроили вход с улицы, который существует по сей день. Это был едва ли не единственный магазин на всю округу, торговавший не только продуктами, но и промтоварами – одеждой, обувью, галантереей и канцелярской мелочью.
Открытие нового магазина ознаменовалось появлением совершенно диковинной вещи – прямо напротив входа красовался мясной отдел. На крючьях висели куски говядины. Под ними стояла невообразимых размеров колода для рубки мяса. К массивному мраморному прилавку была привинчена огромная мясорубка, а под ней тазик с фаршем. Ценники свидетельствовали о том, что мясо было значительно дешевле того, что продавали на базаре. Праздник продолжался недолго. Отдел подолгу пустовал из-за отсутствия товара. Во всяком случае, на прилавке.
В хлебном отделе работала Миля Романовна Коваленко. Это была пожилая женщина с вечно поджатыми губами, словно она была сердита на весь белый свет. За полтора десятка лет, в течение которых мне приходилось бывать в магазине почти каждый день, я не видел даже подобия улыбки на её лице. Хлеб тогда продавался на вес, и потому Миле Романовне целый день приходилось орудовать ручной механической хлеборезкой, отмеряя каждому покупателю заказанный вес. Хлеб, как товар штучный, появился позднее. Таких понятий, как свежий хлеб, или вчерашний не существовало, потому что он никогда не залёживался. Перебои с хлебом были не редкостью, поэтому за ним приходилось ездить в «Гастроном» на ул. Московской, а то и дальше. Помню, как в первой половине 50-х хлеб в течение краткого промежутка продавали только в хлебном магазине на Миллионной (Панаса Мирного). Очереди возле этого магазина выстраивались огромные. Причин такого странного явления никто, конечно же, не объяснял.
Курьёзный случай с хлебом, точнее, с его отсутствием в нашем доме, произошёл 31 декабря 1950 или 1951 года. Понадеявшись на свой магазин, который в предпраздничные дни работал дольше обычного, мы особенно не переживали. Около 10 часов вечера стало ясно, что надо что-то делать – в магазин хлеб так и не подвезли! Только мои сверстники могут понять, что это такое – сесть за праздничный стол без хлеба. Я был срочно командирован в центр города. Надежда была на хлебный ларёк, устроенный в глухом заборе, который некогда ограждал территорию нынешних Дворца для детей и юношества и гостиницы «Салют» на площади Славы. Окошечко ларька, слава Богу, светилось, значит, хлеб там был. Домой я вернулся минут за двадцать до Нового года. С хлебом!
В отделе гастрономии и бакалеи царствовала Рахиль Исаевна. Она ловко управлялась и с макаронами, и крупами, и с колбасой, и с селёдкой 4–5 видов, и с маслом сливочным и подсолнечным, и с конфетами, и со спиртным. Ассортимент напитков был скудный: водка «Московская особая», «Портвейн», «Кагор» и «Вермут». Подсолнечное масло привозили в 200-литровой стальной бочке, из которой его нужно было доставать специальным черпаком. Тару, в качестве которой использовали бутылки из-под вина или водки, надо было приносить свою. О рафинированном масле тогда ещё не знали, а то, которое продавали, имело не янтарную окраску, как мы видим это сейчас, а представляло собой мутноватую жидкость желтоватого цвета. После недели отстоя на дне бутылки оседал слой хлопьев толщиной сантиметра полтора. Жарить картошку на таком масле было противопоказано, потому что она приобретала горьковатый привкус.
Подавляющее большинство продуктов питания, за исключением рыбных консервов, пакетиков чая и эрзац-кофе с цикорием, поставлялось не расфасованными, а целыми мешками (крупы, сахар и т. п.), ящиками (макаронные изделия), и бочками (селёдка). Поэтому Рахиль Исаевне приходилось весь день пользоваться весами, отмеривая очередную просьбу покупателя. Сливочное масло, например, приходило в картонных коробках весом килограммов 30–40. Редкий посетитель заказывал больше 100–200 граммов по той простой причине, что в те годы ни у кого не было холодильников. Вот и приходилось продавщице сначала тонкой стальной струной с двумя рукоятками разделять огромный масляный брус на части, от которых уже обычным ножом отрезать небольшие куски.
Читать дальше
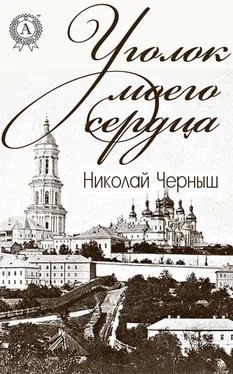
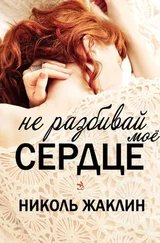
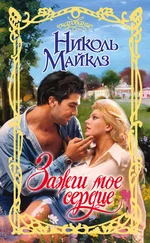
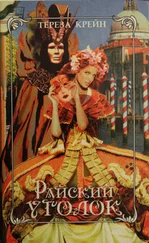

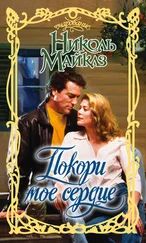
![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 2. Кровь от крови моей [litres]](/books/413492/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga-thumb.webp)
![Николь Жаклин - Не разбивай мое сердце [ЛП]](/books/438542/nikol-zhaklin-ne-razbivaj-moe-serdce-lp-thumb.webp)