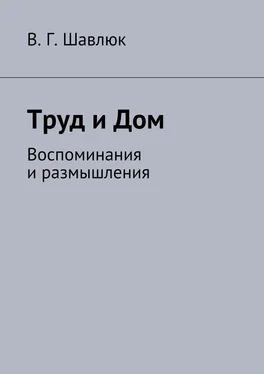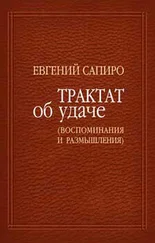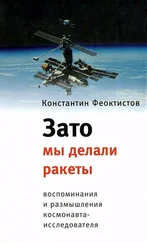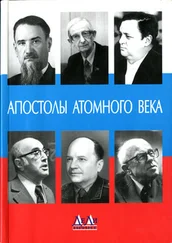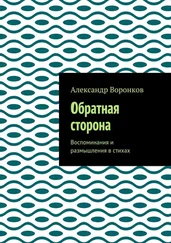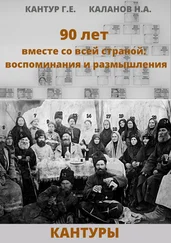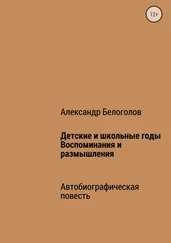1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Ещё один эпизод из жизни семьи. У мамы разбилась большая столовая глиняная миска. Иван решил попытаться отлить новую, но не из глины, а из алюминия, которая никогда не разобьётся. Алюминий можно было взять из обшивки сбитых в войну самолётов. Мы с Иваном такие места знали и один раз пошли за этим металлом. Принесли, прикинули, что его вполне хватит на одну миску. У брата был заготовлен сухой, чистый песок для формы и начали. Мы знали, что алюминий плавится при 700 градусах. Такую температуру на обычных дровах не создашь. Но у нас было много сухого торфа и на нем можно. Миска отливалась на песчаной форме с отверстием для залива. Расплавили алюминий, залили в форму до верха, открыли форму после охлаждения, миска получилась хорошо, но потребовалось потом срезать остаток алюминия, полученного в лотке при заливе. А срезать такой застывший круглый кусок алюминия со дна миски без нужного, как сейчас, инструмента оказалось тяжелой задачей и от дальнейшего литья пришлось отказаться.
Однажды мне пришлось работать с братом при добыче торфа для топлива. Скажу сразу, что это адский труд. Делается это так. На выделенном торфяном групповом участке примерно 3х3 м сначала срезается растительный и песчаный слой. Затем брат специальным резаком-лопатой нарезает торфяные глыбы послойно, передаёт мне наверх, а я их отношу на край участка. Глыбы мокрые, ломкие и крайне тяжёлые. На этом участке торф залегал на глубину около 2 м. Чем дальше копаешь, тем труднее поднимать эти глыбы на поверхность и относить. Этой работы нам хватало на целый длинный летний день. Дальше глыбы ставятся вертикально по 3- 4 штуки, с наклоном, для сушки. После высыхания увозятся домой на дровяной склад.
Ещё коллегиальный труд – это сенокос. Требовалось не только скосить траву, но и высушить её как сено, сохранить от дождей, добыть телегу с лошадью и привезти домой, разгрузить, снести в сарай и загрузить на место. Ранней весной, как только сойдёт снег и подсохнет почва, мы всей семьёй (обычно это было на 4-й день Пасхи) выходили на поле для сбора и выноса камней. Удивительно, откуда они берутся, если каждую весну убираем, а они всё появляются? Это тоже труд нелегкий: надо камни собрать в кучи, потом их унести и выгрузить в нужные места на грунтовой дороге. Работа эта проходила весело, ведь близилась весна и всё оживало. Пилить и колоть дрова – это тоже постоянная работа на селе. Дрова надо заготовить, распилить, расколоть, сложить в штабели или в поленницу, защитить от атмосферных осадков. В нашей семье дрова использовались одновременно с торфом. Это было более эффективно, чем только дрова, была более высокая теплоотдача.
Всегда весной у нас коллегиально решался вопрос – что, где и сколько сеять, отводить для этого место, учитывая, что его всегда было мало. Требовалось как можно больше удовлетворить запросы семьи. Потребность, конечно, всегда превышала возможности, приходилось останавливаться только на самом необходимом: на рожь отводилось не более 2 соток, на картошку -не более 3. На лён 1. Ячмень и гречка – тоже по 1, на всё прочее оставалось менее половины площади. Вот и думали, гадали. При этом, надо было учитывать и то, что посевы должны располагаться на площади без повторения прошлогоднего, то есть должен быть севооборот. От расположения посевов зависело, куда и сколько завозить для удобрения почвы навоза, который за зиму накапливался. Всё это было не так просто решать. Надо, конечно, было маме накопить для оплаты посевной наёмному работнику за 3 рабочих дня- дяде Семёну, он ежегодно делал у нас эту работу, будучи вместе с лошадью и телегой. Оплата за работу по существующей тогда разумной таксе стоила 10 злотых. Но откуда брались эти большие для семьи деньги? Это в основном ручной труд мамы и Ольги на полях у кулаков по прополке и уборке овощей, жнивьё от зари до зари, брата —на лесозаготовках, косьбе, уборке. Мама ещё продавала часть масла, сметаны, творога, яиц. Сами мы обходились не только что полученным свежим молоком, а молоком уже после снятия на сливки для изготовления масла, а также творогом, маслом, сыром, хотя и с некоторыми ограничениями. Но молоко, которым мы пользовались, хотя уже частично и после снятия на сливки, было очень высокого качества, по современным меркам несравнимо с тем, что едим теперь, в нём не было никакой химии, никаких «Е».
Для мамы ещё отцом было сделано великолепное приспособление для изготовления масла. Оно представляло собой усечённый конус из деревянных клёпок диаметром в днище 25 см, вверху около 15 см, высотой около 70 см, с отверстием для пропускания ручки, оканчивающейся крестовинкой из двух планок. В эту маслобойку заливались сливки и этой ручкой движением сверху вниз взбалтывались до появления масла, сначала в комочках, а потом и целым комком. Оно сливалось, промывалось и вот оно, готовое масло. Ни одно масло сегодняшнего заводского изготовления и близко с ним не сравнится.
Читать дальше