Все люди , всех жалко , – безотчётной, необъяснимой радостью разлилось в сердце Екатерины, когда, выспросив, где завод, поспешила в желанную сторону, к любимому.
Какая радость: солнце, наконец-то, пробилось и заплескалось в окнах высокого, длинного здания в начале улицы Карла Маркса. Несомненно: завод, завод драг, тот самый, Афанасьев! Но в груди засвербил голосок испуга.
За металлическим решётчатым ограждением проходной бродил хмурый дядька в шинели, с кобурой на боку, – понятно, охранник или вахтёр, и, разумеется, без пропуска хода нет. В деревне куда хочешь заходи – на ферму, в сельсовет или же на любое подворье, а в городе запутанная, со всякими подвохами и несуразицами жизнь.
Раскрываясь, угрюмо заскрежетали высокие металлические ворота, показалась широкая морда грузовика с длинным прицепом, на котором громоздко возлежало нечто колоссальное – какая-то металлическая деталь, часть механизма или конструкции, – не могла понять Екатерина. На заводе вершится нечто великое, возможно, эпохальное, нужное для всей страны, для народа, а, стало быть, вероятность, что её Афанасий трудится именно здесь, чрезвычайно высока: ведь он так любит размах по жизни, значимость, грандиозность в помыслах и делах!
Видит: люди на проходной показывают охраннику серые книжицы – пропуска. Тот важно и сердито в каждый вглядывается. Эх, была не была! – и Екатерина нырнула между медленно выкатывавшимся прицепом и растворённой воротиной. Вихрем ворвалась на территорию завода. И надо бы теперь пойти спокойно, таить от окружающих своё бурлящее волнение, однако Екатерина не совладала – припустила что было духу.
За спиной заверещал свисток. Охранник – прыжками за нарушительницей. Сцапал её за косу, смял в кулаке волосы с гарусным платком:
– К-куда? Стоять! Стрелять буду!
Заволок в служебное помещение; там ещё двое охранников, и все с кобурами, и все хмуры. Насмерть перепуганная, ошеломлённая, Екатерина заскулила, как ребёнок:
– Дя-а-а-деньки, отпустите, пожалуйста!
– Вызову чекистов, они тебя, шпионку, и отпустят… годков через двадцать, – злобной весельцой занялись глаза охранника, словившего преступницу. – Погниёшь в магаданских лагерях, похлебаешь поросячью баланду.
Стужей ужаса окатило Екатерину: поняла – пропала! С раннего детства запомнились ей сосланные взбунтовавшиеся донские кулаки – мужики, бабы, детишки, старики. Пригнали их от железной дороги предзимьем; уже лежали снега и утрами трескуче примораживало. Окриками и уськаньем собак остановили колонну едва бредущих, голодных, оборванных людей в поле неподалёку от Переяславки. С машин были сгружены мотки колючей проволоки, доски, брёвна, инструменты. Офицер сказал иззябшим, измождённым людям коротко: хотите выжить – стройтесь. И люди без промедления взялись строиться. Но первым делом было велено вкопать столбы и натянуть колючую проволоку, и люди без ропота за двое-трое суток беспрерывной работы создали для себя зону, острог. Потом, на зорях, когда солнце чуть осветит землю, развиднеется, в лагерной стороне клацали выстрелы. Переясловцы шептались: солдаты больных-де пристреливают, потому как за колючкой свирепствует какая-то зараза. К лету лагеря не стало; солдаты скрутили в мотки проволоку, разобрали наспех сколоченные лачуги, вывезли всё до последней досточки. Куда подевались заключённые – переясловцы не знали. Однако в лесу, по оврагам, в болотистом урочище то там, то тут натыкались на свежевскопанную, местами сорванную динамитом землю. Неужели всех перестреляли и закопали, как собак? – единственно глазами и отваживались селяне спросить друг у друга.
Теперь и Екатерине попасть за колючку, сгинуть на Колыме! Только что сердце жило любовью, ожиданием, только что она чуяла всем своим существом цвет, вкус и запах счастья, только что летела душой над всей дольней жизнью, однако мгновение, другое – и она сражена и смята твердокаменными законами человеческого общежития, людской косностью, узколобостью, ожесточением, злобным азартом. Не увидеть ей более ни матери, ни сестрёнки, ни Афанасия, ни родного села, ни родимой Ангары. Убьют и её, как за околицей Переяславки тишком поубивали, а то и заморили голодом, тех несчастных мужиков, баб, детей и стариков! Господи! – чуть не вскрикнула она.
Но – что такое? Один из охранников, рыхло-щекастый, красноносый, словно Дед Мороз, дядька, улыбнулся. Не усмехнулся, не ощерился, глумясь, злорадствуя, а просто улыбнулся, как и может, видимо, улыбаться хороший человек.
Читать дальше


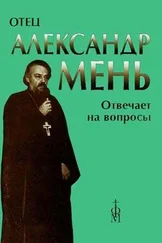

![Александр Донских - Яблоневый сад [litres]](/books/401226/aleksandr-donskih-yablonevyj-sad-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)



