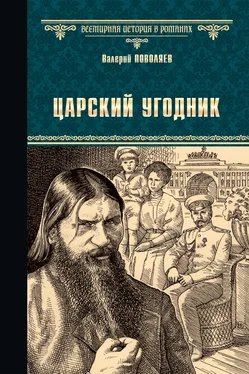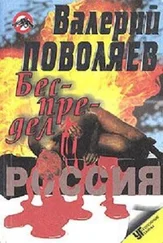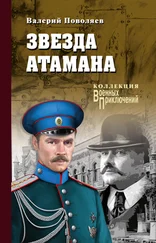Однажды из Царицына прибыла группа поклонниц Илиодора – очень боевых, горластых, совсем не похожих на обычных прихожанок, их было человек пятьдесят. Полные сил прихожанки, увидев стражников, лежавших в тени забора – это было до того, как полиция помягчела к Илиодору, – решили освободить своего кумира.
Но в драку с полицией не полезешь, полиция все равно окажется сильнее, поэтому они купили два десятка лопат и попытались прорыть к дому Илиодора подземный ход.
Об этом узнал Иван Синицын, заметно похолодевший к бывшему иеромонаху, и донес полиции. Поклонниц Илиодора накрыли вместе с лопатами, ход засыпали.
Но и Синицын вскоре тоже был наказан – Бог наказал, как говорили люди: сытно поужинав, он вдруг схватился за живот и повалился на землю. Долго катался по ней, кричал, потом изо рта у него полезла пена, и Синицына не стало. Почил в Бозе. В медицинском заключении было указано: отравился дохлой рыбой.
А в остальном к Илиодору не было претензий – даже в связи с подкопом, в полиции решили, что влюбленные в красивого Илиодора прихожанки сделали это по собственному разумению, Илиодор здесь ни при чем, – и удивились, когда из Петербурга поступило распоряжение произвести у Илиодора обыск. И не только у Илиодора – у его сторонников тоже.
– Мда-а. Это, видать, в связи с убийством Распутина, – догадались полицейские чины.
Обыски ничего не дали – у Илиодора, кроме пустых бутылок, запаса картошки и арбузов, дареного белого посоха и тряпок жены, ничего не нашли, у его сторонников – тоже.
Распутин стонал, бредил, пытался перевернуться на бок, и тогда его приходилось держать – у Распутина могло остановиться сердце, хотя и крепкое оно было, но работать беспредельно не могло, оно должно было надсечься. Пульс дрожал, температура почти не опускалась – точнее, опускалась чуть, но тут же ползла вверх, к той критической отметке, когда кровь начинает густеть, врачи провели у постели старца несколько ночей.
Если раньше брал верх осторожный тоболец – он боялся принять грех на свою душу, то теперь тюменцы оттеснили врача с «Владимиром» на шее и энергично боролись за жизнь «старца».
Была сделана операция. Операция прошла при свете лампдесятилинеек, наполнивших комнату печным жаром, дышать стало нечем, зажгли все лампы, что были в распутинском доме, еще три лампы взяли у соседей. Завершилась операция успешно. Теперь из Распутина надо было постоянно выгребать гной. Неприятное это дело, но тюменцы не морщились, орудовали слаженно и четко.
Были минуты, когда Распутин с хрипом выбивал из себя знакомые имена: «Пуришкевич… Саблер… Маклаков… Илиодор», потом вдруг всхлипывал со слезою и звал к себе дочь.
– Матреша! – дрожал в воздухе слабый распутинский оклик, и, отзываясь на него, в глубине огромной избы билась, полувоя-полуплача, любимая дочь, рвалась в дверь комнаты, в которой лежал отец, мячиком отлетала обратно и снова на полном бегу врубалась в дверь.
– Папанечка!
Врачи дверь Матрене не открывали: прежде чем ее допустить к отцу, надо было основательно обработать, убрать микробы, проспиртовать – дочка Распутина чистотой не отличалась, но зато отличалась другим – любовью к отцу.
– Пуришкевич, Пуришкевич, – стонал Распутин, облизывая языком сухие, твердые губы, – что же ты, а?
– Государственная дума в полном составе, – усмехался тобольский профессор, – Пуришкевич, Маклаков… Глядишь, и тайну какую-нибудь узнаем. А зачем она нам?
Тюменские врачи молчали, их коллега, прискакавший в Покровское первым, не выдержал, гневно выпрямился. Но говорить тоже ничего не говорил.
А Распутин в бреду действительно часто видел Пуришкевича – лысого, лобастого, с аккуратной бородой, намазанной духовитым маслом, наряженного в военный мундир, с орденом под подбородком, гневного. Распутин и так пробовал приладиться к Пуришкевичу – не хотелось с ним ссориться – и эдак, но все бесполезно, и тогда Распутин в сердцах высказался в одном интервью:
– Пуришкевич ненавидит меня за то, что мне приходится заступаться за евреев и, между прочим, просить о допущении купцов-евреев на Нижегородскую ярмарку. Он не может мне простить, что я помогал многим беднякам-евреям в Сибири и не скрывал этого.
Утром Распутин открыл глаза.
– Где я?
– Дома, у себя дома, батюшка, – ласково произнес тобольский профессор, – в селе Покровском.
– А-а, – произнес Распутин, как показалось собравшимся, разочарованно, шевельнулся и охнул от боли, проколовшей его, недоуменно поглядел на врачей, словно бы спрашивая их замутненным взглядом: «А чего так много вас тут?» Подвигал немного непослушными губами и снова закрыл глаза.
Читать дальше