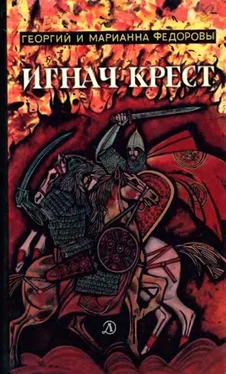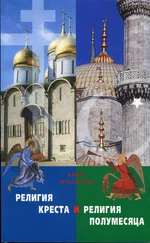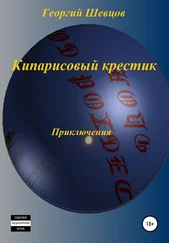Степан Твердиславич снял бобровую шапку, отвесил глубокий поясной поклон и степенно перекрестился. В красном углу над теплившейся синего с зелеными разводами сирийского стекла лампадой привычно глядели с иконы на посадника огромные глаза Михаила-архангела. Икона была его ровесницей, писал ее иконописных дел мастер, побывавший в самом Царьграде и учившийся там у императорских богомазов. Сколько помнил себя Степан Твердиславич, столько помнил он и эту икону: слегка наклоненное лицо с прекрасным овалом, тугие пряди волнистых волос, переплетенных золотыми нитями и украшенных над лбом красным драгоценным камнем. Взор Михаила-архангела был исполнен глубокой печали. Однако Степан Твердиславич, как и всегда при взгляде на этот лик, еще с тех пор, когда он был вихрастым мальчишкой Степкой, почувствовал прилив сил, и на душу его, измученную, истомленную всеми последними днями и ночами, впервые снизошел покой.
Страх исчез, и посадник уже ясным взглядом посмотрел туда, где за широким дощатым некрашеным столом сидел и неторопливо писал гусиным пером на пергаменте могучий старик, облаченный в черную монашескую рясу с подвернутыми рукавами, из-под которых виднелись красные, все еще сильные руки его. Под черной остроконечной скуфейкой курчавились густые, хотя и легкие седые пряди. Седыми были и широкие брови монаха, и его усы, и борода. В жилистой руке гусиное перо выглядело особенно хрупким, и невольно приходила мысль, что руке этой больше пристало сжимать рукоять стального меча. Но вот старик положил перо, поднял на посадника ясные, как осеннее небо в погожий день, глаза, слегка распрямился и сделал ему знак приблизиться. Звякнула на его шее тяжелая золотая цепь от нагрудного с эмалями креста, прежде прижатая столешницей.
Степан Твердиславич подошел, опустился на колени и, почтительно поцеловав руку старца, как мог тихо проговорил:
— Благослови, святой отец!
Монах осенил посадника крестом и сурово сказал, указывая на лавку, стоявшую возле стола:
— Садись. Ты пришел за помощью. Что тебе надобно?
О здоровье старца, как хотел, Степан Твердиславич так и не успел спросить. Он закусил губу и проворчал:
— Я пришел к тебе за советом.
— Нет, — сурово ответил монах, — ты пришел за помощью. — Он крепко сжал свои натруженные руки. — Новеград гудит, как потревоженная пасека. Если сегодня же ты не созовешь вече, оно соберется само. Безбожные таурмены вступили на нашу землю новгородскую. Игумен Ферапонт прислал гонца: Торжок в огне, в кольце осады и люди в нем уже изнемогают. Они ждут нашей помощи. Но ты уже что-то решил. Так ведь?
Посадник отвел глаза и, помолчав, не отвечая на вопрос, сам спросил:
— Далеко ли ты продвинулся в летописании, святой отец?
— До сего дня, — с гордостью и затаенной болью ответил старец. Склонившись к свитку, всматриваясь в него выцветшими бледно-голубыми, но все еще зоркими глазами, прочел последние написанные им строки: — «Оттоле же приидоша безаконънии, и оступиша Торжок на сбор чистой недели, и отыниша тыном всь около, якоже инии грады имаху, и бишася ту окании порокы и изнемогашася людье въ граде…» — и посмотрел на посадника.
Степан Твердиславич, поднявшись с лавки и перекрестившись, глухо, но твердо сказал:
— Пиши дальше. — И стал диктовать: — «А из Новагорода им не бы помочи».
Гусиное перо, которым монах приготовился записывать, выпало у него из пальцев. Он вскочил и наклонился к посаднику. Взгляды их встретились, и вдруг оказалось, что они очень похожи друг на друга. Летописец хрипло сказал:
— Торжок наш пригород. Посадником там новгородец Иван Дмитриевич. А ведь он посадником много лет честно прослужил и Новеграду. Как можем мы бросить их в смертельной беде? Или ты забыл об этом?
Степан Твердиславич, не опуская глаз, молча отрицательно покачал головой.
— Знаю, — с горечью продолжал летописец, — ты скажешь, что Торжку уже все равно не поможем — у поганых [41] Поганые — язычники, нехристнане.
несметная сила, а так, может быть, спасем Новеград, отсидимся за стенами детинца. Может быть, и так. А только спасем-то мы уже другой Новеград. Как дуб крепок своими кореньями, так и Новеград славен своими бесстрашными сынами, честью своей и совестью. Что ж останется от них, если мы предадим в беде родной пригород? Да будь я теперь, как встарь, посадником, я сам бы повел рать на помощь Торжку, как водил полки и дружины новгородские на емь, корелу и Литву, — проговорил монах и тяжело опустился на лавку.
Читать дальше