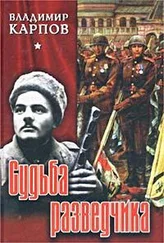Криворотов от природы не был злобливым человеком и не стал им. Хотя позднее понял, что зло, однажды поселившись вместе с людьми в вагоне, отсюда уж более не уходило. А он на долгие годы так и остался невольным узником этого зла, долгие годы общался с ним. По-крестьянски, с богом, он давно уже смирился со своим положением. Понял, что судьбой обречен на эту неволю так же, как узники вагона смерти.
Службу он нес справно, во что не просили, – не лез. «Наше дело телячье – обгадился и стой», – учил его родной дед, с которым он прожил до самой службы. Так он вскоре и вовсе привык к человеческой злобе. Зло грех! Это он знал. Но зато покаяние освободит тебя от этого греха. Господь милостив, простит! А что до службы, то она, что и «публика» в вагоне, ни тогда, ни сегодня ничем друг от дружки не отличается. Да и как ей отличаться, если русский, он один и тот же, что тогда, хоть с самого крещения Руси, что сегодня. Он все так же жесток, будто и вовсе не было революции, не кричали улицы «справедливость, свобода». Слова эти, должно, затерялись на непролазных дорогах российских и сюда в вагон не попали да им и места здесь свободного нет. На лицах людей, что тогда, что ноне, лежит все та же серая паутина смерти. И бьются они в этой липкой паутине, как мухи, попавшие в лапы паука, овладевшего, должно быть, Россией с давних пор.
Да, жалость за этих, обиженных богом, несчастных была и есть, да и куда ей деться: человек, ведь, божье создание. А наше дело телячье, – кому-то все одно служить надо. И не так уж важно кому? То цари были, теперь пришли красные, завтра, глядишь, «нонешних царей» под зад коленом. А тебе все едино, – ты служи, хоть за кусок хлеба. А большего – не жди. И не важно какая нынче власть. Вона, обувка сгноилась, а новой не проси, – не дадут. Ведь никому нет до тебя дела. А просил – и не раз. Хотя к палачу любой власти нужон помощник? Нужон. Да без нас палач как без рук. А то вот, возьму, да сбегу. Сколь от сюда сбежало… А все чаще на ходу поезда. Так проще. Спрыгнул где – и ищи ветра в поле. А то дурачком прикинутся. И такое бывало. Этот новенький Старшой еще не знает – с кем он здесь служит. Только мне бежать некуда… Оно бы все ничего – служи себе да служи. Ведь не зря говорят, что там хорошо, где нас нет. Коль власть одна, – то и порядки везде одни и те же. На Руси пошли такие власти-то, что и человека в упор не видят. А потому и нам все одно какая власть, как тому татарину: ему хоть убивать, хоть убитого оттаскивать – все едино. А мы сколь веков были под татарином… те же и у нас повадки. Доведись до меня: какая разница, что вести к обрыву на исполнение, что трупы в тамбур тащить.
Криворотов смахивает залоснившимся рукавом шинели слюну, готовой вот- вот сорваться вниз через отвислую, как вишня, губу. «Черт ее побрал», – всякий раз, смахивая ее, ругается он, и гримаса пробегает по его лицу, еще более его обезображивая. Он долго кашляет, потом с отвращением сплевывает себе под ноги.» Должно за это и Губошлепом прозвали», – при этом думает он. Что до себя, то он свыкся с тем, как обозвал его нонешний Старшой. Но в душе он против, чтобы людям, как собакам, давали унизительные клички. Уже за одно это ему не нравится этот Старшой.
Из отдушины в полу, приспособленной под отхожее место, тянуло запахом гнилья и холодной сыростью осеннего утра. Не по-летнему слабый пучок света, пробивавшегося сквозь решетку окошка под потолком вагона, теперь уже не опускался до пола, а блуждал где-то по середине стенки вагона. Свет с трудом прорезал мглу смрада, оставляя слабый дрожащий от идущих испарений след, наполняя вагон и освещая его обитателей слабым лунным все омертвляющим светом.
Дауров не испытывал ни голода, ни даже жажды. Но одолевала слабость.
Не с первого раза, но он все же поднялся. Попробовал двинуться по узкому проходу к выходу. Каждый шаг давался усилием рассудка, кружилась голова. От напряжения тело било ознобом, как в параличе. После нескольких шагов понял, что больше не сможет устоять на скользком полу, – и тогда он пополз на четвереньках. И все же жизнь из него не ушла, она двигала его вперед, требуя движения. Но голос охранника остановил его:
– Постой! – крикнул Криворотов, сообразив, что на него надо было надеть кожаные кандалы, как и положено при выходе смертника из вагона.
Через открытую дверь он спросил об этом Старшого. Хотя ответа сразу не последовало, но охранник знал, что Старшой всегда при таких случаях бывает невдалеке. Он выждал минуту – другую.
Читать дальше