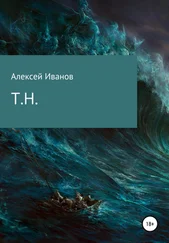Город умирал, съеживался, впуская в свои великолепные кварталы новых «жильцов». Так теперь назывались те, кого власть переселяла в барские квартиры. Реже стали ходить в гости, голод сузил интересы до примитивных: раздобыть, купить, поменять… Появилось слово с таинственным смыслом: «достать». Его произносили с почтением. Обнаружились и люди, которые могли что-то «достать».
И город сдался, капитулировал, сломленный страхом, голодом, расстрелами, тифом, кто-то успел бежать через финскую, эстонскую границу, уйти на последних кораблях к шведским берегам, но их счет шел на сотни и десятки… Десятки из трех миллионов населения столицы…
Надвигалась зима семнадцатого. Ранняя, холодная, бесснежная. Со злобными вьюгами, промерзшими подъездами, патрулями и голодом, голодом, голодом… Первая зима после переворота, о котором жители узнали из газет, пачкавших руки типографской краской, из листовок – их швыряли прямо в толпу с грузовиков, из декретов, расклеенных на стенах поблекших и разом постаревших домов.
Пайка, поданная рукою власти, поставила город на колени.
И никакие вести о мирных переговорах в Брест-Литовске, об успехах на переговорах правительственных делегаций, о братаниях на русско-германском фронте, о сибирских дивизиях и свежих частях, способных опрокинуть немцев, никакие слухи о генерале Корнилове, готовом ради спасения Родины стать военным диктатором, о казачьих частях Краснова и Каледина уже не могли заставить город подняться с колен.
Город, сломленный голодом, рухнул и так, со склоненной головой, встречал новый, тысяча девятьсот восемнадцатый.
* * *
– Может быть, господа-товарищи барышень желают-с? – склонился к Микуличу ласковый банщик-татарин. – Мы из своих можем-с. Можем-с, по желанию-с, из благородных.
Помещение в Казачьих банях, где в свое время пировал Распутин, особой роскошью не отличалось. Но чистоту и порядок, несмотря на все революционные вихри, старые банщики держали твердо.
Старший банщик лично открыл несколько бутылок пива: зная, что Микулич, почетный гость, пьет только темное. «И охлаждено в плепорцию, как вы любите!» Затейливые бутылки, похожие на многогранные пирамиды, покрылись легкой испариной.
– Пиво, заметьте-с, настоящий «Английский портер» от Дурдина. Завод, сами знаете-с, закрыт, но для своих…
– Я ихний портер, – Микулич, укутанный в мохнатое полотенце, был похож на актера, играющего римского патриция, – лю-люблю! – Он икнул. – Откуда берут, жульманы, – не признаются. Что от Дурдина – врут. Но бутылки – ихние, Дурдинские. И вкус – не отличишь! А ребрышки свиные делают – за уши не оттянешь. И поверх горчицы, не поверишь, медом, подлецы, мажут. Для вкуса!
– Из закусочек что будете-с? Как всегда-с? – Татарин расплылся в улыбке. – Ребрышки свиные или бараньи на уголечках? Это-с, правда, минуток шесть-восемь подождать придется. А вот сосисочки наши, казачьи, с сыром и с беконом, тоже на уголечках, можем мигом-с. И ушки с сыром?
– Давай и ушки! – Микулич налил пиво в литровую жестяную кружку, закрыл глаза и медленно выпил. По тому, как двигался кадык на толстой, жилистой шее, было видно, что пьет он с удовольствием.
– Сегодня, Сеславинский, за твой счет гуляем, – Микулич поставил кружку на столик, поданный татарином. – Деятельность твою в УГРО толком не обмывали, а обмыть не грех. В о время соскочил ты из Чеки! – Он увидел, что Сеславинский рассматривает кружку. – Особое, брат, удовольствие, портер из этой жестянки пить. С Петровских, говорят, времен правило идет. Англичане их привезли, – он повертел кружку, рассматривая гравированный английский текст. – Портер английский без такой посуды – ничто. Nihil!
* * *
Сеславинского с Микуличем свела зубная боль. Коренной зуб вдруг стал чувствовать горячее и холодное. Странно, за три года войны зубы ни разу не беспокоили. А тут – едва прибыл в Петроград – и на тебе!
Всезнающие тетушки Сеславинского немедленно отправили его к знаменитому Ивану Алексеевичу Пашутину, товарищу их старшего брата еще по Военно-Медицинской академии. Сейчас Иван Алексеевич всего лишь консультант в бывшей своей же клинике на Невском, но тетушки немедленно позвонят (телефонируют!) ему, и он непременно примет племянника. В коридоре бывшей Пашутинской клиники он и повстречал Микулича. По правде говоря, в Корпусе они практически не встречались. Корнеты (старшие) со «зверями» (младшими) общались редко. Микулич был тремя классами старше и к «мелкоте» не присматривался.
Читать дальше
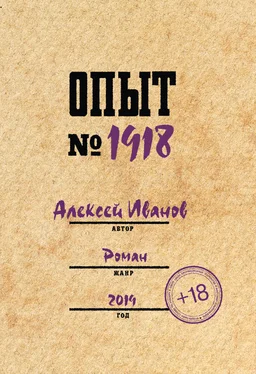
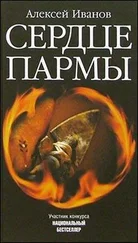
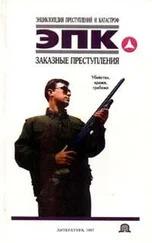
![Алексей Иванов - Боевой жрец [СИ, калибрятина]](/books/27266/aleksej-ivanov-boevoj-zhrec-si-kalibryatina-thumb.webp)