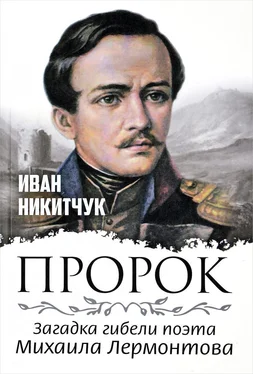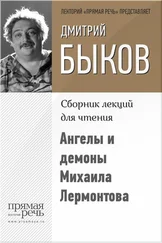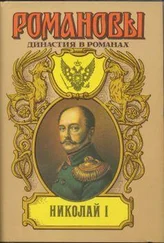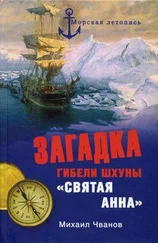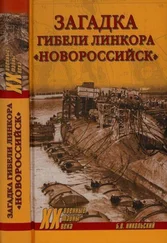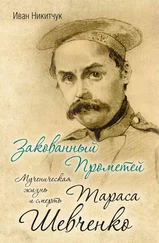– Опомнись, Мишенька. Ты принят в лучших домах, по службе тебя не стесняют, – рано тебе еще в отставку. Алеша, что с ним?
– Он прав, Елизавета Алексеевна. Его надо избавить от мундира, – сказал Столыпин, поддерживая своего друга.
– Я ведь прошу немногого. Хотя бы краешек свободы.
– Мишенька, мы уже говорили с тобой об этом. Да что ты будешь делать в отставке? Зачем тебе эта свобода? Неужто тебя уж так утесняют?
– Я уеду в Тарханы. Помните, бабушка, какие там осенью дни… Помнишь, Монго, как туманы стелются над прудом и желтые листья шумят на ветру.
– Да что тебе в Тарханах-то делать при твоей молодости? Губить ее, что ли?
– Работать, бабушка! Работать!!!
– Не пойму я тебя, Мишенька. Стихи писать всюду можно. Да как у меня язык повернется просить об отставке? Хотя бы разрешили тебе остаться в Петербурге.
– Ну что ж, воля ваша. Но чувствую я, что недолго еще мне быть в столице. Снова под чеченские пули…
У Елизаветы Алексеевны из глаз потекли слезы:
– Мишенька, друг мой, одно ты у меня утешение в жизни. Смирись. Умру я скоро, смерть уже стучится в окошко… неужто ты не дашь мне покойно закрыть глаза?
Столыпин незаметно выходит.
– Я старуха беспонятная, что скрывать. Стихи твои чудные, но разве это занятие для дворянина? Не соображаю я этого. Не гневайся на меня, Мишенька. Уж позволь мне любить тебя, старой дуре, попросту, без затей.
– Как бы ни сложилось, но верьте, моя милая бабушка, что я люблю вас всем сердцем.
– Я верю тебе, Мишенька… Ты откушай еще чайку, а я пойду по дому похлопочу.
Оставшись один, Лермонтов снова погрузился в раздумья.
Бал у Воронцовых-Дашковых был в полном разгаре. Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Здесь собирался весь цвет петербургского общества, часто присутствовали и особы царской семьи. Вот и сегодня здесь брат императора великий князь Михаил Павлович и дочь императора – Мария Николаевна.
Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски, что, впрочем, вовсе неудивительно; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут были и доморощенные дипломаты, путешествовавшие за свой счет не далее Ревеля и утверждавшие резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстуков на военную молодежь, преданную удовольствию…
Танцующие кавалеры разделились на две группы – одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше, другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица скользили небрежно по паркету, изредка бросая фразы своей партнерше.
Но зато дамы… о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент… чудеса природы, и чудеса модной лавки… волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белила, звучные фразы, заимствованные из модных романов, бриллианты…
Лермонтов смотрел на происходящее вокруг него и невольно подумал: «Женщина на бале составляет со своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете. Судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно, что судить о мнении и чувствах поэта, прочитав одну его поэму или даже стихотворение…»
Лермонтов глазами пытался найти в веселящейся толпе Эмилию Карловну, милую Эмму, и не находил. К нему подошла давняя знакомая.
– Отчего вы не танцуете, Мишель? – спросила она его.
– Я всегда и везде следую вашему примеру.
– Разве с нынешнего дня.
– Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?
– Иногда бывает слишком поздно… Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. Я вас теперь очень хорошо знаю.
Читать дальше