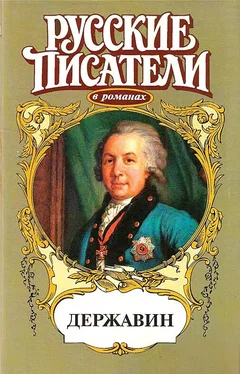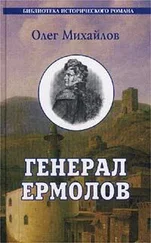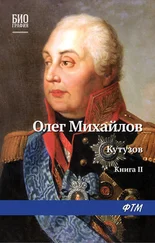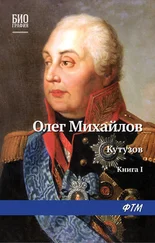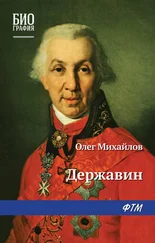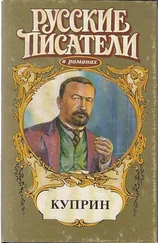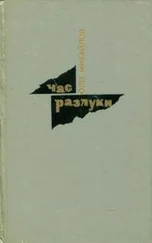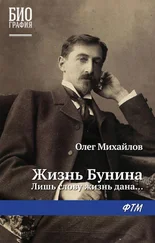Император быстро поднял его:
— Похвальна и весьма твоя привязанность к отцу... Поезжай и учись у него... Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу...
С этого дня не появлялось номера газеты, русской или немецкой, в коем не упоминалось бы о Суворове. Державин в воображении своём шёл за ним через Адидж, Треббию и По и с нетерпением ожидал его в Париже.
Уже давно, со времён «Водопада» и оды «На взятие Измаила», поэта пленил сумрачный шотландский бард Оссиан, в возвышенных тонах поведавший о древних героях. Державин не знал, что песни Оссиана — искусная стилизация поэта Макферсона, объявившего, что он обнаружил их в горной Шотландии и перевёл с гэльского языка. Суворов также любил макферсоновского Оссиана, перечитывал его в переводе Кострова, и Державин порешил воспеть славные победы в Италии высоким штилем этих поэм.
Се ты, веков явленье чуда!
Сбылось пророчество, сбылось!
Луч, воссиявший из-под спуда,
Герой мой вновь свой лавр вознёс!
Уже вступил он в славны следы,
Что древний витязь проложил;
Уж водит за собой победы
И лики сладкогласных лир.
Каждая новая победная весть отдавалась гулом рукоплесканий в русском обществе. Тон задавал сам император, осыпавший Суворова и его чудо-богатырей дождём наград и милостивейших рескриптов. Державин с жадностию читал донесения Суворова, которые печатались в «Прибавлениях» к газете «Санкт-Петербургские ведомости». Основываясь на точных фактах, живописуя величие Альпийских гор и тысячи препон, вставших на пути русского войска, поэт нарисовал картину швейцарского похода Суворова:
О радость! — Муза, дай мне лиру,
Да вновь Суворова пою!
Как слышен гром за громом миру,
Да слышит всяк так песнь мою!
Побед его пленённый слухом,
Лечу моим за ним я духом
Чрез долы, холмы и леса;
Зрю — близ меня зияют ады,
Над мной шумящи водопады,
Как бы склонились небеса.
В звучных стихах запечатлевается бессмертный подвиг — как пример для подражания будущим поколениям, как символ непобедимости русского солдата. Какое обилие красок! Какая сила изобразительности!
Ведёт в пути непроходимом
По тёмным дебрям, по тропам,
Под заревом, от молньи зримом,
И по бегущим облакам;
День — нощь ему среди туманов,
Нощь — день от громовых пожаров;
Несётся в бездну по вервям,
По камням лезет вверх из бездны;
Мосты ему — дубы зажжены;
Плывёт по скачущим волнам.
Поражает смелость уподоблений и поэтических преувеличений, служащих одной, главной цели — возвеличиванию Суворова и русских богатырей:
Таков и Росс: средь горных споров
На Галла стал ногой Суворов,
И горы треснули под ним.
В русской поэзии немало стихов посвящено Швейцарскому походу Суворова. Но первым это сделал Державин.
Возьми кто летопись вселенной,
Геройские дела читай;
Ценя их истиной священной,
С Суворовым соображай.
Ты зришь: тех слабость, сих пороки
Поколебали дух высокий;
Но он из младости спешил
Ко доблести простерть лишь длани;
Куда ни послан был на брани,
Пришёл, увидел, победил.
Вал суворовской славы, прокатившийся по Европе, обогнавший влачившегося в дормезе, на ненавистных ему перинах хворого генералиссимуса, бушевал уже в Питербурхе. Нетерпеливый и порывистый Павел I не находил себе места, по нескольку раз на день спрашивая, когда же наконец приедет Суворов.
Всесильный генерал-губернатор Питербурха, начальник почт и полиции, член Иностранной комиссии граф фон дер Палён на утренних докладах не упускал случая дать мыслям императора иное направление. А после развода и отдачи пароля начальник военно-походной канцелярии граф Ливен докладывал Павлу поступавшие донесения инспекторов, которые обращали внимание на то, что шаг в полках, возвращающихся на постоянные квартиры из-за границы, не соответствует предписанному, что алебарды и офицерские эспантоны порублены и сожжены в Швейцарии, что у многих солдат обрезаны косы, что в боевых столкновениях применялся рассыпной строй, не указанный в уставе, что немало и других нарушений формы, к примеру, штиблеты заменены сапогами. Перед выходом к обеду и ужину, во время одевания, гардеробмейстер, простодушный Кутайсов, передавал императору неблагоприятные для Суворова соображения, нашёптанные Ливеном, Палёном, голштинцами Штейнваром, Каннибахом, Линдерером...
В один из своих докладов в середине марта 1800 года Палён вдруг замялся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу