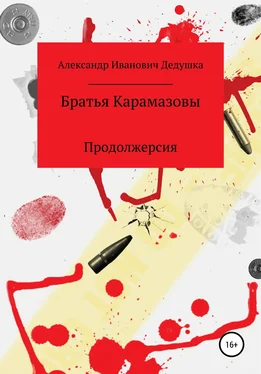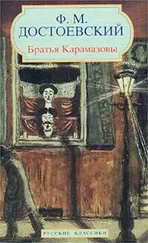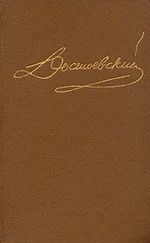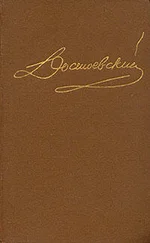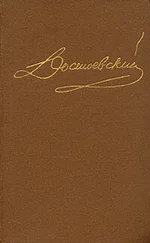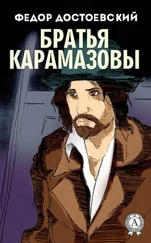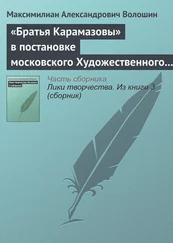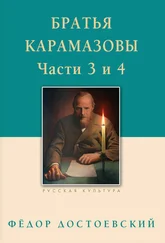Но каково!?.. Говорят, если отец Паисий вышел из комнаты, то отец игумен вместе с отцом Иосифом просто рассмеялись. Они не могли поверить, что это все серьезно – но напрасно, напрасно, судя по тем событиям, которые потом стали развиваться вокруг этой истории. Весть о завещании Федора Павловича мгновенно разнеслась по городу. Вот уж было кривотолков, возмущения, смеха, даже кощунственного хохота, но самое главное – какого-то глумливого ожидания. Все как будто были уверены, что должна случиться какая-то, как выражались, «очередная мерзость», но вместо того, чтобы что-то предпринять, чтобы она не случилась, с несомненным тайным злорадством и сладострастием стали ожидать ее. И если бы она не случилась, то, пожалуй, были бы очень недовольны. Интересно, как к этому завещанию отнеслись в самой карамазовской семье, точнее, в той части, что от нее осталось – а именно между двумя родными братьями. Алеша словно был оглушен и придавлен всем тем, что услышал – он не проронил ни слова и во все последующее время, когда события стали раскручиваться и развиваться, только становился мрачнее и мрачнее. А вот Иван Федорович – и это было даже удивительным – проявил невиданную настойчивость в том, чтобы завещание не только было исполнено, но исполнено самым тщательным и буквальным образом, выступив в роли «гаранта» его исполнения и угрожая даже судебными преследованиями, если оно не исполнится. В самом монастыре, когда весть о завещании Федора Павловича дошла и туда, поднялся чуть ли не бунт. Абсолютное большинство монахов оказалось резко против подобного захоронения, и еще больше против «неугасимой лампады» и «неусыпаемой псалтыри». Последняя почему-то особенно всех возмутила. Больше всех неистовствовал Ферапонт, наш знаменитый впоследствии, да уже и в то время все более почитаемый отшельник и изгнатель бесовских духов.
– Блудницу вавилонскую под стены!?.. Пить мерзости ее блудодеяния!?.. Могилой сей загугнявится землица монастырская!.. Отхожее место будоти! Будоти!.. – то и дело вопил он не своим голосом, потрясая посохом, и действительно внушая ужас одним своим видом и громовыми интонациями. – Мерзость запущения!.. Мерзость запущения!..
Но если эти эскапады и могли кого испугать, но только не Ивана. Тот приступил, как он это называл, к «методической осаде». Во-первых, написал в епархиальное управление жалобу на «самоуправство» нашего монастырского начальства. Затем выступил с разгромной статьей в наших губернских ведомостях. Эта газета у нас в полном соответствии с «требованиями времени» имела либеральное направление, хотя и тут не обошлось без значительного денежного вспоможения. Статья называлась «Должны ли монахи молиться за грешников?», само ее содержание было посвящено доказательству этого провозглашенного тезиса и своим резким тоном она произвела немало шуму. Мало того, Ивану Федоровичу удалось склонить на свою сторону часть нашего городского начальства, и даже городской глава, чтобы уж совсем не выглядеть ретроградом, стал в частных разговорах склоняться на «карамазовскую сторону». Кроме этого, даже в столичной либеральной печати (говорили, что к этому руку приложил уже известный читателям Ракитин) разгорелась дискуссия о «лицемерии» монашеского сословия. В конце концов, дело завершилось приездом в наш монастырь самого преосвященного – владыки Захарии, нашего главного губернского архиерея. К этому времени «бунт» в монастыре достиг таких размеров, что часть монахов собралась покинуть его стены и уже подала об этом прошение владыке.
Владыка Захария уже более десяти лет руководил нашей епархией. Это был очень крупный, но и очень болезненный человек, не проживший и пары лет после этих событий. Он целую неделю жил в монастыре, то и дело принимая делегации «заинтересованных сторон», среди которых вместе с Иваном он принял как-то и бывшего слугу Федора Павловича Григория. Тот уже в который раз твердо и однозначно, как это делал и при его жизни, стал на сторону убитого барина, повторяя неоднократно загадочную, твердую, словно отлитую из свинца фразу, на которые он был мастак:
– Федора Павловича, убиенного невинованно, долгом довести полагается до точки спасения.
Каким долгом, кому этот долг вменяется, и что такое «точка спасения», он, разумеется, пояснять не стал, полагаю, и сам себе затруднился бы дать точное объяснение, но фразу эту он повторял неоднократно и, разумеется, перед владыкой тоже. Кстати, после посещения владыки Захарии он тоже изрек уже с какой-то задумчивостью и как бы колеблясь:
Читать дальше