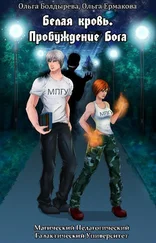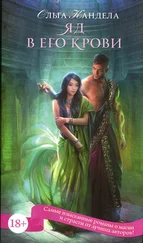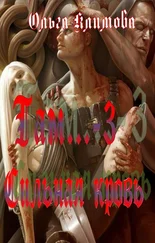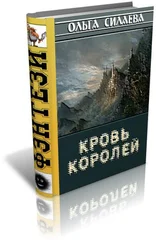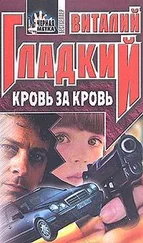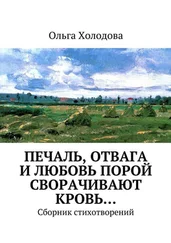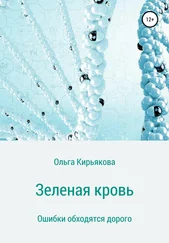Германская культура и жизненный уклад колонистов, как правило, оставались неизменными в течение многих лет, несмотря на то что пришедшие со временем поколения успешно «получали в наследство» полную вовлечённость в жизнь принявшей их семьи, страны. Несмотря на постепенное затухание родства с Германией, великая этническая гордость и самосознание уникальности нации неизменно подчёркивались переселенцами и имели особую, ярко выраженную форму свободы. А свобода эта в начале долгого исторического пути в России объяснялась, прежде всего, позитивными политическими причинами, такими как изоляция колонистов в сельскохозяйственной системе, в религии и в культуре, которая, безусловно, превосходила на тот момент культуру славян.
Манифест Екатерины Второй «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России…», послуживший приглашением немцев к переселению, содержал в своём тексте многие и многие заманчивые обещания, начиная от оплаты расходов по поездке из Германии до пункта по распределению в Ораниенбауме, заканчивая освобождением от земельных налогов, военной службы и разрешением на строительство католических и лютеранских церквей. Приложением к данному Манифесту был регистр земель, которые Императрица открыла для поселений. Он включал в себя перечень обширных областей в районе Тобольска, в северо-западной Сибири, район Астрахани и территории вдоль реки Волги, выше и ниже Саратова. Российские правительственные агенты успешно распространяли переписанные и переведённые копии Манифеста в различных районах Германии, Голландии, Австрии и Пруссии. Также и в устной форме гарантировались замечательные условия для существования переселенцев, неограниченные возможности и льготы.
Специальные уполномоченные по делам переселенцев в России в своём отчёте Императрице о проделанной в Германии работе подчеркивали особенности характера немцев: честность, бережливость, незыблемые религиозные убеждения, прочная ориентированность на свои семьи, трудолюбие, строгость…
Открыто пропагандировались предложения о переселении только в тех странах, где была не запрещена эмиграция. В иных же странах агенты действовали согласно инструкции, агитировали «тайно и с предостережением». Все желающие уехать в Россию заносились в списки под номерами, с подробным определением степени их трудоспособности и родом занятий. Отказывали, как правило, старым, немощным и не имеющим семьи, а также тем, кто не мог показать документ об официальном увольнении от работодателя. Завербованные эмигранты организованно направлялись к морским портам через город Бюдинген в Любек и Росслау. Пастор Бюдингенской Евангелистской Лютеранской церкви, господин Вейс, писал в своём дневнике: «…каждый день я вижу караваны людей, проходящих через наш населённый пункт с намерением оставить Германию и уйти в Россию по тем или иным причинам. Невозможно постичь душой, почему люди делают это, почему вверяют свои судьбы незнакомому иностранному государству. Бегущие надеются обрести счастье и найти лучшую землю, чем наша земля. В действительности они слушают мнение тех, кого совсем не знают, кто может оказаться обманщиком или жуликом. Среди отъезжающих совсем немного представителей знати – они из тех, кто разорён или выкинут на обочину жизни политическими интригами и грязными играми правящей верхушки Германии. Но есть и такая категория людей, принявших предложение русских, у которых практически ничего нет, которые не имеют уже ничего, что можно было бы потерять. Их жизнь уже не может стать ещё хуже, чем есть…»
Германия, город Бюдинген. Незабываемая средневековая архитектура возвышающегося в середине города замка Изенбургов, долгих семь сотен лет служившего родовым гнездом этого прославленного графского рода… Около замка – большая Евангелистская Лютеранская церковь, в которой не одна сотня молодых пар перед отъездом в Россию совершила обряд венчания. В честь этих событий в городе зародилась красивая традиция – недалеко от церкви новоявленные супруги должны были посадить саженец дуба…
Когда эмигрирующие достигали порта посадки на корабли, их помещали под охрану, несколько дней до отплытия ограничивавшую свободу перемещения, дабы предотвратить таким образом общение с теми, кто развивал ностальгические чувства, или с теми, кто мог бы отговорить их от предстоящего путешествия. Путешествия, которое для многих стало дорогой испытаний, разочарований и даже смерти…
Читать дальше