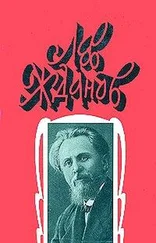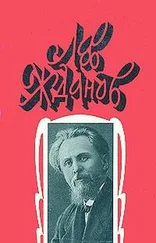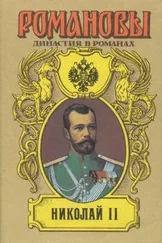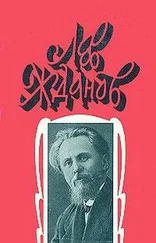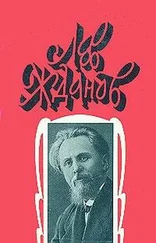Но юноша вспоминал свою клятву, говорил себе, что нельзя быть неблагодарным, надо верить человеку, который был всегда добр, оказал столько услуг бедному, безымянному мальчику.
«Но здесь, в этих свертках, наверное, и кроется тайна моего имени, моего рождения…» – думал юноша. Рука уже тянулась разорвать, разрезать крепкую ткань… Взглянуть, увидеть, понять…
И тут же падала обратно.
Неукротимый во всех своих желаниях, Сирота умел обуздать себя в настоящем случае.
– Наверное, для моей же пользы приказал мне ждать честной отец… Он не похож на остальных – не объедал, не опивал монастырских… Святой души старец. Послушаю его. Клятвы не сломаю, чтобы Бог не покарал меня…
Обе ладанки оставались нетронутыми больше года.
Живой, понятливый, Димитрий успел за это время ознакомиться с украинской речью, схожей во многом с общим русским говором и в то же время совсем своеобразной, певучей, мягкой такой. Молодая, богатая память помогла юноше сделать большие успехи за очень короткое время. А затем еще скорее овладел он и польским языком. На людных улицах, на шумных площадях веселого торгового города прислушивался Сирота и к немецкой речи, какую можно было здесь слышать чаще, чем на Москве.
Тысячи сильных ощущений наполнили душу юноши, на время как бы отвлекая его от одной неустанной мысли, от желания узнать: кто он сам? Есть ли кто-нибудь в мире у него близкий, или на самом деле он – круглый, бездомный сирота?
Приютился юноша у того же монаха Гервасия, к которому направил его из Москвы наставник-инок.
Особняком, беленькой веселой мазанкой с камышовой крышей стояла келья инока, тоже ведающего монастырские книги и рукописи, составляющего хроники, как его московский приятель.
Здесь – свободнее все говорится про Москву и больше можно узнать, чем живя там, на месте. Правда, и ложных слухов немало кругом носится. Да кто знает московских людей и дела ихние, – сразу поймет, что правда, а что прибавлено в каждом слухе, в каждой вести, идущей из-за рубежа московского.
Мирно, в молитве, в работе, в прогулках текло время Димитрия. Он еще был слишком юн, чтобы изведать и другие стороны жизни – кутить или вздыхать по темным очам, по вишневым губкам киевских красавиц, «дивчат и молодиц», как они здесь называются.
Южная зима настала… Крещенье близко.
Вдруг нежданный, дорогой гость появился в келье Гервасия, поздоровался с ним по чину, поклоны отбил и после обратился к остолбенелому Сироте:
– Что же стоишь, чадо, ровно Лотова жена посолонелая? Али не признал?! Челом бью!
Гость, инок Чудовской обители, отдал поклон Сироте. Тот прямо на шею к нему кинулся.
– Отец Авраамий! Вот не ждал! Как тебя Господь занес? Да как выехал с Москвы? Надолго ль к нам? Что отец Паисий? Наши все? Господи, вот радости Бог послал!
И даже слезы радости выступили из глаз, покатились по рдеющим щекам Сироты.
– Все слава те Господи. Челом тебе бьют, шлют благословение свое, навеки нерушимое, сиротке бедному…
И старик благоговейно осенил голову юноши своею дрожащей рукою. Очевидно, он был очень взволнован, как будто не знал, с чего ему начать, как приступить к делу, ради которого явился сюда с далекой Москвы, да еще зимою.
Передохнув немного, инок продолжал:
– Приставы с Москвы на Смоленск выехали. Послов тамо будут встречать больших: Сапеху Катцлея со товарищи. Едут в нашу сторону для мирного договора на вечные времена… Вот я с ими, с приставами, и увязался, выпросился у игумена… И по монастырским делам, к смоленскому отцу игумену… И для своих нужд… В Смоленске приставы-то долго еще поджидать послов будут… Я сюды и пробрался с обратными, с попутчиками, по ямам по проезжим… Близко, благо, тута… Тебя повидать… и братьев иных в обители… Недалеко, толкую…
– Совсем рукой подать, коли Долгоруких взять, – кланяясь инокам, подхватил диакон Гришка, вошедший на эти слова, – с приездом али с прилетом! Как челом бить, не скажешь ли, брат Авраамий?
– Здорово, брат Григорий… Вот ты тут! Тебя и не хватало… Все балагур мирской, по-старому?
– Нет. Тута моложе стал. Видишь: браду отпустил, наусие, обмирщился, чернечий кафтан скинул, казацкий жупан вздел. Ладно ли? Что скажешь?
– А мое ли то дело? Чем плохим чернецом, лучше добрым мирянином быть, так я думаю. А там, Богу знать…
С приходом Отрепьева Авраамий стал иной, словно сжался весь, каждое слово взвешивает.
– Так, так, умное слово. И сам я так думаю. А что на Москве нового слыхал? Как царенька, милостью Божией да пищалью стрелецкою? Слышно, лютует теперь, не хуже покойничка Грозного царя, Ивана Васильевича?
Читать дальше