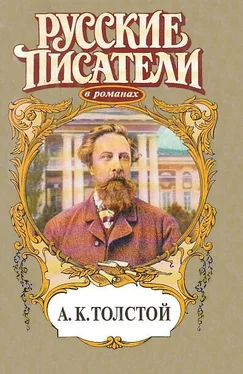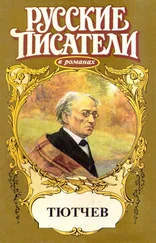Предъяви ты своему противнику обвинения по существу спора, даже вцепись по этому поводу ему в горло — только не прибегай к сплетням и доносам! Это всё равно что, рассуждая о какой-нибудь картине, написать, что она плоха оттого, что художника отвлекали частые посещения какой-нибудь Мальвины Карловны, которой он недавно подарил браслет, купленный в английском магазине за сто пятьдесят восемь рублей — сумму, вручённую ему женой для уплаты долга тестя, который занял эти деньги шесть лет назад для поездки куда-нибудь в Старую Руссу... Вот вам логика наших господ, когда они берутся отстаивать свои взгляды! Того и гляди, Катков сейчас, заведя речь о моём тосте в Одессе, назовёт меня не более и не менее как предателем!
Честно говоря, сразу после своей речи Толстой подумал, что «Московские ведомости» тут же не преминут откликнуться в духе своего густо-псового патриотизма. Но купил по дороге один, другой нумер — ни слова! Потому и решил, возвращаясь домой в Красный Рог, заглянуть на денёк в Москву.
Неужели одесские события до Каткова не дошли? Как бы не так — его корреспонденты чуть ли не во всех городах России. И если в газете ни строчки и теперь, при встрече, ни намёком, ни словом о происшедшем — значит, есть у Каткова какой-то смысл. Но какой, если многие провинциальные газеты сообщили о речи и даже в дороге пошли пересуды?
Важный господин, подсев в вагон к Толстому где-то между Харьковом и Курском, достал из кармана какую-то местную газетку и принялся рассуждать вслух:
— Не читали? Граф Алексей Толстой, сообщают, вздумал на обеде в одесском клубе заступаться за каких-то там инородцев. Выходит, и мы, великороссы, и они, всякие там чухонцы, армяне и полячишки, вместе считаемся полноправными членами православного государства? Да никак нельзя допустить в могучем Русском государстве разных инородных национальностей! Вы со мной не согласны?
Следовало, конечно, представиться, прежде чем вступать в разговор, но собеседник так оказался переполнен впечатлениями от газетного сообщения, что позабыл о приличиях. Толстому же вовсё было не с руки открывать себя в щекотливом разговоре, но и упустить возможность узнать стороннее мнение не хотелось. Потому он, продолжая внезапно возникший разговор, тут же возразил собеседнику:
— Вы говорите: разных национальностей в государстве допустить нельзя? Однако не кажется ли вам, что вы смешиваете государства и национальности, тогда как любой лексикон скажет вам, что это — разные вещи. Нельзя допустить в одной державе разных государств, но не от нас зависит допустить или не допустить национальностей! Армяне, подвластные России, будут армянами, татары татарами, немцы немцами, поляки поляками.
Собеседник округлил глаза:
— Это же как изволите вас понимать? Вы — за то, выходит, чтобы все они и говорили на своих языках, и имели собственные школы, а затем нас, православных, онемечили, обармянили и ополячили? Вы помните восемьсот шестьдесят третий год, к чему тогда привело заигрывание с поляками и потакание их претензиям? А мне пришлось в ту пору служить в армии в Западном крае. Там такое поднялось — своё государство потребовали поляки! И если бы не решительность генерал-губернатора Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского, светлая ему память, да твёрдость нашего императора, неизвестно, чем бы кончилось.
Чего другого, но той «решимости» Толстой не мог забыть. Острой болью пронизала его тогда весть о страшной судьбе Сераковского, того чистого и благородного Зыгмунта, с которым всего каких-нибудь два года до того он встречался в доме Герцена в Англии. Возвратившись с конгресса в Петербург, Сераковский опубликовал в «Морском сборнике» статью «Извлечения из писем о военно-уголовных учреждениях главнейших европейских государств». В статье с присущей ему энергией он обстоятельно и убедительно доказал необходимость уравнения в правах нижних чинов. А в апреле 1863 года вышел правительственный указ об отмене в армии и на флоте телесных наказаний.
Но надо было случиться такому — заступник забитого несправедливой муштрой солдата, поборник справедливости, — он, тяжело раненный, с перебитыми рёбрами, был схвачен на поле боя и, лишённый милосердия и всяческой помощи, заточен в каземат.
Мог ли он, поляк, не поддержать своих братьев, которые в самом начале 1863 года поднялись за свою свободу против позорного, унижающего их национальное достоинство российского гнёта? Рано подняли народ организаторы восстания, не успели своё стремление к вольности по-настоящему связать с помыслами лучших русских людей, понимавших, что без поддержки России Польше не разбить своих оков. Но поздно было Зыгмунту вспоминать предупреждающие слова Герцена, когда фитиль оказался зажжённым и пламя уже устремилось по нему к пороховой бочке.
Читать дальше