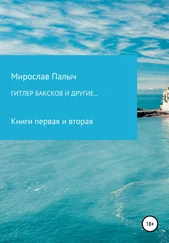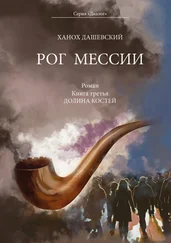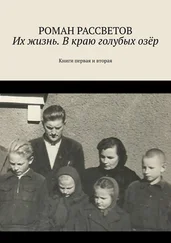Сидя на грязном полу, Гольдштейн понимал, что из подвала, где он находится, обратной дороги нет: почти все попавшие сюда евреи исчезали навсегда. Не испытанный прежде ужас, поднимаясь из сумеречной глубины своего постоянного обитания, охватывал его, лишая способности думать. Тогда он впадал в забытье, но когда сознание возвращалось, вместе с ним возвращались не покидавшие его ни на мгновение мысли. Как могло такое случиться? Почему, игнорируя предупреждения, сомневаясь и не доверяя, он дождался худшего? Ему бросали спасательный круг, а он в своём дурацком высокомерии отталкивал его, потому что видел вокруг лишь спокойные воды и не понимал, что за этим коварным затишьем поднимается волна, которая погубит всех.
Тот декабрьский день 1938 года доктор Гольдштейн запомнил очень хорошо, потому что вечером этого дня у него произошла серьёзная размолвка с женой. Накануне закончилась Ха́нука, отгорели восемь свечей, и, хотя днём открывали окна, запах воска ещё чувствовался в гостиной. Войдя в квартиру, Гольдштейн отдал пальто служанке Марте, помыл по неизменной докторской привычке руки и прошёл в большую светлую комнату. Ничто не предвещало скандала, и только звуки музыки, издаваемые «Бехштейном», вызывали в душе, как нередко случалось в последние годы, вместо желанного умиротворения са́днящее чувство утраты. С женой у Залмана были добрые отношения, построенные на взаимном стремлении как можно меньше ворошить прошлое. «Вот именно – добрые», – с грустью подумал Гольдштейн, потому что как ни старались оба склеить возникшую в их отношениях трещину, линия разлома всё равно проступала.
Увидев Залмана, Э́стер перестала играть. Доктор рассчитывал на семейный ужин. Жена была рядом, Лия занималась чем-то у себя в комнате, но отсутствовал Мойше, которого дома и в гимназии звали Михаэлем: по вечерам он занимался боксом в спортивном клубе «Макка́би» [1] Связанная с сионистским движением всемирная спортивная организация.
. Будь на то воля Гольдштейна, он так и назвал бы сына – Михаэлем, но отец доктора реб [2] Уважительная приставка перед именем у традиционных восточноевропейских евреев.
Исро́эл, человек уважаемый, неизменный синагогальный староста, не соглашался ни за что. Какой может быть Михаэль, когда его покойного отца звали реб Мойше? Папа серьёзно нервничал, и Залману пришлось уступить.
Доктор поцеловал жену, поймав её улыбку. Долгожданный ужин откладывался. Нужно было ждать Михаэля. На самом деле Залман был против увлечений сына. Бокс? Ну что это за калечащий спорт? А кроме того, что это за спортивный клуб, из которого Михаэль приносит домой сомнительные идеи? Заразился сионизмом и рассуждает о Палестине как взрослый. Что за блажь? Мальчику всего-то пятнадцать лет. Ну, конечно, – у него там родной дядя. И Эстер, он, Залман, в этом уверен, тайно поддерживает Михаэля. Не понимают они оба, что такой жизни, как в Латвии, у них в Палестине не будет. Придётся всё начинать сначала, и где? В азиатской пыли и грязи? Взгляд доктора упал на круглый обеденный стол, где лежал большой распечатанный конверт, а рядом – письмо и ещё одна бумага, по виду какой-то документ. Неспокойное сердце подсказало, что это тот самый документ, который доктор Гольдштейн меньше всего хотел бы видеть.
– Дорогая, – начал было он, собираясь задать естественный в подобном случае вопрос, но Эстер опередила:
– Давид прислал письмо и сертификат.
– Но разве мы просили?
– Мне всё больше кажется, что этот документ нам очень скоро пригодится.
– Что всё это значит, дорогая? – Залман почувствовал, как в нём начинают говорить два голоса. Один, раздражённый, доказывал, что надо быть категоричным и жёстким. Другой, спокойный и тихий, убеждал не спорить и поискать путь к компромиссу.
– Нам придётся серьёзно поговорить, Зяма. Но сначала прочитай.
Гольдштейн взял в руки письмо. Написанное на идиш неровным почерком, оно читалось с трудом. Доктор давно отвык от такого чтения. На идиш он говорил только с отцом и тёщей, да ещё со своей сестрой Ми́рьям. Другая сестра, Гита, была вся в маму. В доме Гиты говорили по-немецки, поэтому госпоже Хане больше всего нравилось бывать у старшей дочери. Мать Залмана – коренная рижанка – презирала идиш. Родители Ханы, потомки выходцев из Курляндии [3] Находившаяся под многовековым немецким влиянием западная часть Латвии.
, считали её брак мезальянсом, они долго не давали на него согласия, пока претендент на руку их дочери не выучил кое-как немецкий язык. Реб Исроэл тоже выдавал себя за рижанина, но при этом тщательно скрывал, что родился в латгальском местечке Пре́йли. Зато в семье доктора Гольдштейна говорили не только по-немецки, но и по-латышски. Такой порядок Залман установил с первого дня: в его доме не должен звучать жаргон, который почему-то называется языком идиш. Благодаря матери и тому, что доктор изучал медицину в Гейдельберге, он говорил не на каком-то провинциальном диалекте, а на «хох дойч» – литературном немецком языке. А латышский был языком государства, за свободу которого Гольдштейн воевал в девятнадцатом году. Памятный знак и памятную медаль участника освободительной войны он считал своими главными наградами. Только одно долго не удавалось Гольдштейну: его жена, происходившая из Двинска [4] Ныне Дáугавпилс. До присоединения в 1920 г. к Латвии входил в состав Витебской губернии.
, ни за что не собиралась отказываться от привычного произношения своего имени – Эсфирь, по-домашнему Фира, как, впрочем, и от идиш, своего родного языка. Но Залман поступил мудро. Фира хотела играть, у неё был почти абсолютный слух, и доктор взял для жены учительницу музыки, прибалтийскую немку Амалию Стессель. Она-то и приучила упрямую не только правильно говорить по-немецки, но и отзываться на «Эстер».
Читать дальше
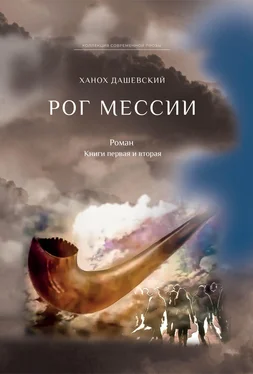
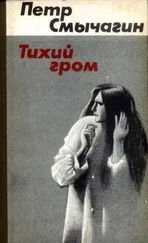
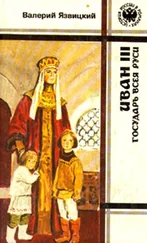

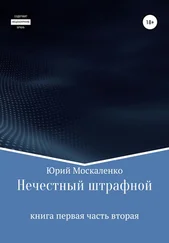
![Юрий Москаленко - Путь одарённого. Крысолов. Книга первая. Часть вторая [СИ]](/books/401685/yurij-moskalenko-put-odarennogo-krysolov-kniga-p-thumb.webp)
![Евгений Синтезов - Первые шаги. Книга первая. Часть вторая [СИ]](/books/421112/evgenij-sintezov-pervye-shagi-kniga-pervaya-chast-thumb.webp)