1 ...6 7 8 10 11 12 ...37 Дора молчит. Она давно свыклась с дядиным равнодушием, столь болезненно воспринимавшимся ею в былые годы. Вспышки гнева – с ними она тоже могла совладать. Но вот это бессердечное презрение появилось совсем недавно, и с ним Дора смириться никак не могла. Она делает очень глубокий вдох, который больно растягивает ей легкие, и начинает отодвигать стул, чтобы встать, но тут Иезекия поднимает руку.
– Сядь. Мы еще не закончили.
«А я закончила». Но слова прилипают к языку, и Дора не может их произнести в ответ на приказание дяди, поэтому вперяет сердитый взгляд в свою пустую тарелку и шепчет про себя греческий алфавит, чтобы успокоиться: «Альфа, бета, гамма, дельта…»
– Лотти, – слышит Дора голос Иезекии, – принеси-ка нам чаю.
Служанка – сама учтивость. Когда за ней затворяется дверь, Дора чувствует, что Иезекия снова поворачивается к ней и издает невеселый смешок.
– По крайней мере, я могу восхищаться твоим устремлением, столь же возвышенным, сколь и неосуществимым. Рисуй, если ты этого так хочешь. В ближайшие месяцы это будет держать тебя в приподнятом состоянии духа. Я даже продолжу снабжать тебя бумагой для рисования.
Что-то странное слышится в его голосе. Дора хмурится и смотрит на него.
– Дядюшка?
Иезекия лениво поглаживает свой шрам на щеке.
– В последний год ты стала писаной красавицей. Прямо как твоя мать… – В камине с треском вспыхнуло полено. – Тебе уже двадцать один год, – продолжает он, наваливаясь всем весом на упертые в стол локти. – Женщина. Ты уже достаточно взрослая, чтобы продолжать жить со мной под одной крышей.
Дора молчит, и тут до нее доходит смысл сказанных им слов. Она шумно сглатывает.
– Вы хотите избавиться от меня.
Он разводит руками.
– Но ведь и ты тоже хочешь от меня избавиться!
Дора молчит, с этим не поспоришь.
– И куда же вы хотите, чтобы я ушла? – спрашивает она, но Иезекия только пожимает плечами. И улыбается.
Тяжесть давит на грудь, ей трудно дышать. Дора не понимает, что означает эта улыбка, но она отлично знает дядю, чтобы понять – его улыбка не сулит ей ничего хорошего.
За ее спиной распахивается дверь. К Доре возвращается способность дышать, и тут Лотти ставит на стол чайный поднос. Тонкая фарфоровая посуда тихо позвякивает.
– Вот чай, сэр! – сияя, говорит она. – И еще я принесла засахаренные сливы, как вы заказывали. Они сегодня свежайшие!
Лотти машет восьмиугольной коробкой.
– Дай одну Доре, Лотти!
Прислуга с сомнением прищуривается, но выполняет просьбу Иезекии, а Дора во все глаза смотрит на коробку, на уложенные внутри сладости. С опаской бросает взгляд на дядю, который наблюдает за ней, сцепив ладони под подбородком.
– Что это такое?
В ее голосе сквозит недоверчивость. Она ничего не может с собой поделать.
– Засахаренные сливы, – отвечает Лотти. – Вкуснейший деликатес!
Лотти подносит коробку под нос Доре, она улавливает сладкий аромат, но все равно сомневается.
– Давай! – настаивает Иезекия. – Попробуй хоть одну!
Она нерешительно выбирает лежащую в середине сливу и надкусывает ее: зубы погружаются в желеобразный шарик, и целое мгновение Дора наслаждается изумительным ощущением. Вкус сладкой ягоды взрывается у нее на языке, раскрываясь разными нюансами: ванили, специй, апельсина и орехов – такого она в жизни не пробовала, но тут Дора ловит взгляд Иезекии, устремленный на нее через стол. Так он еще никогда не глядел на нее.
Так кот смотрит на ничего не подозревающую птицу. Голодным, расчетливым взглядом.
Умостившись на тесной оттоманке у окна в небольшом алькове, Эдвард Лоуренс наблюдает за тем, как январь начинает свою жестокую и безжалостную игру. Утро сегодня холодное, как надгробная плита, и ветер закручивает безумные вихри, срывая охапки колючих льдинок и усыпая ими колоннаду Сомерсет-хауса. Сикоморы, окаймляющие главную аллею, гнутся под порывами ветра, и пустые птичьи гнезда отчаянно вцепляются в голые ветви, как нищий в найденный на мостовой кусок хлеба. Вода в фонтане замерзла, тропинки покрыты коварно гладкой коркой льда, баржи на Темзе сердито качаются у причалов.
Сколько он уже ждет, Эдвард не знает. В дальнем конце длинного аванзала, над большими дверями, за которыми сейчас решается его судьба, виднеются часы, но их давно не заводили. У него болят плечи оттого, что он сидит ссутулившись в такой тесноте; да и эта оттоманка у окна слишком жесткая и неудобная. За время томительного ожидания Эдвард грыз заусенцы на пальцах и уже дважды пересчитывал фрески на потолке. А уж сколько раз повторил про себя девиз Общества – Non extinguetur, – он и вспомнить не мог. «Неугасимые». Вот так. Он, верно, ждет уже час. Или несколько минут.
Читать дальше

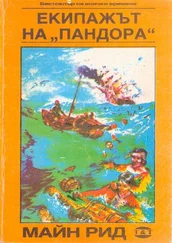






![Гэри Чепмен - Когда извинений недостаточно [litres]](/books/402785/geri-chepmen-kogda-izvinenij-nedostatochno-litres-thumb.webp)

