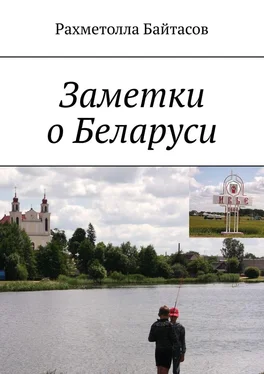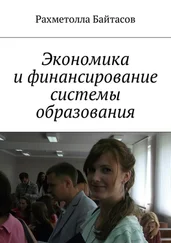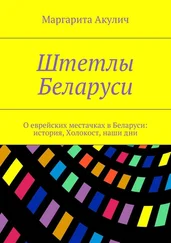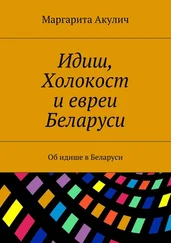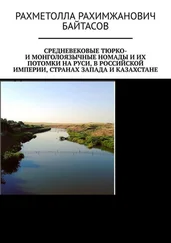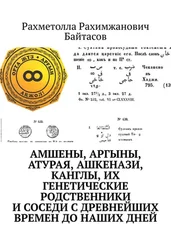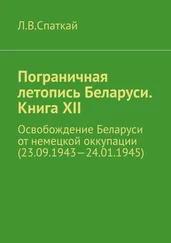В частных вотчинах положение крестьян было намного хуже. В правовых актах права таких крестьян не регулировались или имели формальный характер. Однако «на практике право перехода признавалось лишь за теми крестьянами, которые некогда пришли в имение извне. Они считались людьми прихожими (похожими), или вольными. Исконные жители данного поселения, унаследовавшие свой надел от дедов и прадедов, рассматривались как люди извечные, дедичи, или отчичи. Владельцы склонны были трактовать таких людей как свою неотъемлемую собственность и распространять на них правовые нормы, действовавшие в отношении холопов: пожизненную связь с господином и принудительный возврат в случае бегства. Примечательно, что запрет людям извечным покидать свой надел так и не был сформулирован в явном виде. Видимо, он считался чем-то само собой разумеющимся, причем как в глазах владельцев, так и самих крестьян. Де-факто он сложился уже в XV в., что и позволило в привилее 1447 г. ставить в один ряд людей извечных и невольных. В Статуте 1529 г. лишь регламентировался срок давности для поиска ушедшего отчича – 10 лет» [112].
Большинство историков полагает, что в конце XVI в. в Великом Княжестве Литовском окончательно оформилось крепостное право. Крестьян можно было продавать, обменивать, отдавать в залог. Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, проезжая через территорию ВКЛ в Московское государство, отмечал: «Народ… угнетен тяжелым рабством. Потому что любой, кто облечен властью, может зайти в жилище крестьянина и… без страха наказания сделать всё, что пожелает… даже жестоко избить крестьянина» [9]
Вместе с тем, В. Носевич с такой точкой зрения не согласен. Он полагает, что о завершении процесса закрепощения основной массы крестьянства Великого Княжества Литовского к середине XVI в. «можно говорить только в формально-юридическом смысле. На практике нормы крепостной зависимости постоянно нарушались» [111]. По его мнению, «Видимо, довольно близка к истине оценка мобильности белорусских крестьян, сделанная российскими властями в 1777 г. при описании территорий, приобретенных в результате первого раздела Речи Посполитой: крестьяне губернии Могилевской до присоединения к Российской империи земли не были настоящие хозяева в их жилищах, по причине вольного перехода из одного места в другое. Хотя то и по польским правам запрещалось, но ненаблюдаемое тогда правосудие к сему как им, так и принимающим их вновь владельцам было поводом, посему не помышляли они ни о домоводстве, ни о земледелии, и так что редко поселянин, живущий в деревне, имел свою землю [111].
Вместе с тем, наряду с определенной свободой передвижения, крепостные крестьяне на территории Беларуси были бесправными. Показательна история, приведенная В. Носевичем. Тит Крупский, поданный фольварка Гребень в Ошмянском повете, в 1680-е гг., после смерти родителей, ушёл в деревню Прудки, где женился и завёл хозяйство. Владелец Гребеня Антоний Ян Стабровский обратился к владельцу Прудков канонику Згерскому с требованием вернуть беглеца. Тот предложил взамен выплатить 250 злотых отступного. Стабровский согласился на эти условия, о чем оговорил специально при продаже Гребеня пану Петру Каролю Сабине 8 ноября 1689 г. Однако примерно через 30 лет сын пана Сабины Юзеф неожиданно предъявил претензии на трех сыновей уже покойного Тита, с тех пор проживавших в Прудках, – Казимира, Николая и Томаша, которые были отданы ему «со всею рухомостью, конями, быдлом рогатым и нерогатым, а также сумму в 345 злотых» [111].
Г.В.Вернадский отмечает, «что несмотря на утрату законных прав на участки земли, которые они обрабатывали, крестьяне, будучи крепостными, продолжали считать землю своей собственной и на протяжении долгого времени вступали по ее поводу в разнообразные сделки, такие, как обмен участками земли, сдача в аренду, закладывание или продажа земли.
Поступая таким образом, крестьяне действовали в духе древнерусских юридических установлении, а также в традициях обычного русского права. С точки зрения новой системы в Великом княжестве Литовском, такие сделки были незаконными. Однако великокняжеские должностные лица допускали подобную практику, когда сделки касались крестьян, относившихся к господарским землям, и, если эти сделки не были в ущерб службам. От имени великого князя его чиновники всегда могли аннулировать любую сделку как незаконную, если она была во вред интересам великого князя.
Читать дальше