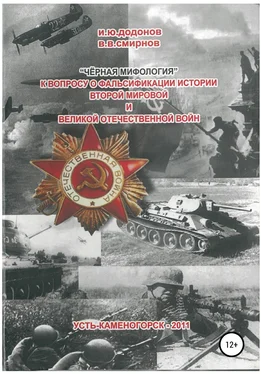Примерно то же самое можно сказать и о максимальной оценке советского танкового потенциала. «Разлёт» между максимальной и минимальной оценками – 2 329 боевых машин (15 209 – по максимальной оценке, 12 880 – по минимальной). Откуда могла взяться такая разница? Выскажем своё предположение. Для этого посмотрим, по каким из округов расхождение данных между максимальными и минимальными цифрами наибольшие (см. таблицу № 2).
На данной странице будет располагаться таблица №2
Совершенно очевидно, что наиболее разительное расхождение цифр приходится на КОВО и ОдВО (вместе). Вот с этих двух округов и начнём своё рассмотрение.
Мехкорпусов в этих округах было десять (см. таблицу № 3). Танков в механизированных корпусах КОВО и ОдВО насчитывалось приблизительно 5617. Говорим «приблизительно», потому что в различных источниках данные о количестве танков в мехкорпусах иногда отличаются друг от друга. Но возникает логичный вопрос: цифра 5 617 почти на тысячу единиц меньше даже минимальной оценки танкового потенциала КОВО и ОдВО (6 541 танк), не говоря уже о максимальной (8 068 танков). Откуда такая разница? Всё дело в том, что в состав мехкорпусов входили не все танки, находившиеся в округах. Было значительное количество машин в других частях и некоторое количество в военных учебных заведениях. Так, по оценкам К.А. Калашникова и В.И. Феськова, число таких танков в КОВО И ОдВО составляло 700 (в КОВО – 558, в ОдВО – 142) 4[38; 147]. С учётом того, что эти авторы считают, что в мехкорпусах данных округов было не 5 617, а 5 841 танк [38; 146], суммарное количество танков здесь получается как раз 6 541. И взять недостающие до 8 068 единицы (т.е. 1 527 боевых машин), прямо скажем, негде.
Но ведь где-то их нашли некоторые авторы. Хороша такая вот «иголочка в стоге сена». Ответ оказывается довольно прост: в общее количество танков в КОВО и ОдВО они «замели» даже то, что к КОВО и ОдВО не относилось, а только на их территории располагалось. Другими словами, в Первый стратегический эшелон не входило.
Поговорим более конкретно. На территории КОВО должны были находиться две армии РГК: 16-я и 19-я. Первая сосредотачивалась в районе Шепетовки (окончание сосредоточения – 10 июля), вторая – в районе Черкассы – Белая Церковь (окончание сосредоточения – 7 июля). В этих двух армиях было два мехкорпуса и отдельная танковая дивизия. В 25-м мехкорпусе (19-я армия) – 300 танков. В 5-м мехкорпусе (16-я армия) – 1070 танков. Количество боевых машин в 57-й танковой дивизии (16-я армия) нам не известно. Но можно предполагать, что оно было штатным или близким к нему (штат танковой дивизии в механизированном корпусе – 378 танков [72; 36]), т.е. около 380 машин. Таким образом, в 16-й и 19-й армиях вместе – около 1 750 танков.
Именно эти танки не в меру ретивые авторы зачислили в боевой потенциал РККА на западных рубежах СССР: 5 617 танков в мехкорпусах КОВО и ОдВО плюс 700 в других частях и вузах плюс около 1750 танков 16-й и 19-й армий; итого – около 8 067 боевых машин.
___________________________________
4Источником происхождения «лишних» танков стали расформированные после принятия МП -41 в феврале 1941 года танковые бригады непосредственной поддержки пехоты (НПП). Укомплектованы они были в основном лёгкими танками Т-26. К моменту расформирования бригад НПП в РККА насчитывалось порядка 10 тысяч Т-26. Однако эти машины и создавались, как танки непосредственной поддержки пехоты, и для действий в составе механизированных корпусов подходили мало. По штатам мехкорпуса, в его составе должно было быть всего 44 Т-26 [72; 36]. С учётом того, что мехкорпусов, по МП-41, изначально планировалось иметь 30, Т-26 суммарно в них оказывалось всего 1 320. Всего же в РККА, по штатам МП-41, должно было быть несколько менее 2 тысяч этих машин [72; 38]. Таким образом, около 8 тысяч Т-26 оставались вне мехкорпусов. Вот они-то, в основном, и были «танками в других частях и вузах» (по классификации К.А. Калашникова и В.И. Феськова).
НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАБЛИЦА № 3
Но какое основание поступать подобным образом было у этих исследователей? 16-я и 19-я армии ни формально к Первому стратегическому эшелону не относились, ни у границ не стояли. Это были армии резерва Главного Командования (РГК), т.е. как раз часть Второго стратегического эшелона. Удалённость их от границы составляла от трёхсот до свыше трёхсот километров. В реальности в бой на южном стратегическом направлении (т.е. в составе ЮЗФ или ЮФ) они так и не вступили, а оказались на Западном фронте. И задействованы были уже в ходе Смоленского, а не приграничного сражения.
Читать дальше