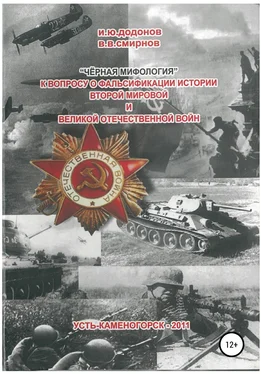Нельзя не отметить, что 13-я армия в июне находилась ещё в стадии формирования, не было полностью сформировано даже её управление [1; 21], [47; 409].
Войскам КОВО директивой Генштаба № 503862/ов от 20 мая также были определены четыре района прикрытия:
РП-1 – для 5-й армии;
РП-2 – для 6-й армии;
РП-3 – для 26-й армии;
РП-4 – для 12-й армии [47; 409-410], [38; 7].
В ЛВО окружным планом прикрытия было предусмотрено пять районов прикрытия:
РП-1 – для 14-й армии и береговых частей Северного флота;
РП-2 – для 7-й армии;
РП-3 – для 23-й армии;
РП-4 и РП-5 – для 65-го стрелкового корпуса [38; 7].
ПрибОВО имел три района прикрытия, а ОдВО – два на границе и два на прикрытии побережья от Одессы до Керчи [38; 7].
Уже отмечались такие недостатки планов прикрытия, как неучёт дислокации частей прикрытия и реального времени, необходимого им на занятие оборонительных рубежей. Так, в ЗапОВО большинство дивизий первого эшелона округа, прежде чем занять оборону, должны были совершить перегруппировку на расстояние до 60 км, зачастую вдоль линии фронта в непосредственной близости от границы.
Во многом причиной данного обстоятельства явилось расположение УРов и полевых укреплений в непосредственной близости от границы. Вопрос с подобным расположением УРов и полевых укреплений можно назвать очень щекотливым, так как Резун и «резунисты» выводят из него одно из доказательств своей теории. Сейчас вдаваться в его обсуждение мы не будем (сделаем это в другом месте), скажем лишь, что данное расположение вызывало возражения многих военных специалистов и было продиктовано соображениями не военного, а политического порядка («Не пяди советской земли врагу!»).
Факт невыгодного расположения долговременных и полевых укреплений усугублялся ещё и тем, что их строительство, огромное по своему объёму, было, по сути, в начальной стадии и не могло быть завершено не только к 22 июня, но и к концу 1941 года.
Эти три обстоятельства (удалённость постоянной дислокации частей прикрытия от УРов и полевых укреплений, отсутствие полосы обеспечения, т.е. придвинутость укреплений прямо к границе, и незаконченное строительство укреплений) усугублялись низкой оперативной плотностью войск в районах прикрытия. Армии прикрытия были вытянуты «в ниточку» по широкому фронту. Для того, чтобы «порвать» эту «ниточку», противнику достаточно было сосредоточить на избранных направлениях не такие уж крупные силы.
Таким образом, оборона по линии госграницы оказывалась неустойчивой, ненадёжной. Это прекрасно понимали в Генштабе, но какого-либо альтернативного варианта занятия обороны, в глубине от передового рубежа или в районах постоянной дислокации частей и соединений, подготовить попросту не успели. Обвинения, которые иногда раздаются в адрес командования РККА, что оно не собиралось предусматривать никакой другой обороны, кроме как по линии границы, несправедливы. В округа были направлены предписания подготовить тыловые оборонительные рубежи, разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину обороны и план минирования важных объектов [47; 412]. Например, командующему КОВО было приказано:
«Обрекогносцировать и подготовить тыловые оборонительные рубежи на всю глубину обороны до р. Днепр включительно.
Разработать план приведения в боевую готовность Коростеньского, Новоград-Волынского, Летичевского и Киевского укреплённых районов, а также всех укрепрайонов строительства 1939 года.
На случай вынужденного отхода (выделено нами – И.Д., В.С.) разработать план создания противотанковых заграждений на всю глубину и план минирования мостов, жел. дор. узлов и пунктов возможного сосредоточения противника (войск, штабов, госпиталей и т.д.)» [47; 412].
Однако на выполнение подобных директив у командующих приграничными военными округами не было ни сил, ни времени: все силы были брошены на строительство укрепрайонов и полевых укреплений на новой границе.
Эти приказы так и остались на бумаге, но, думаем, они однозначно указывают на армию, которая ждёт нападения, а не сама готовится нападать.
Система приведения планов прикрытия в действие была сложной, многоступенчатой и громоздкой.
Ввод в действие начинался с шифрованной телеграммы за подписями народного комиссара обороны, члена Главного военного совета и начальника Генштаба РККА следующего содержания:
«Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 года. Подписи» [47; 412].
Читать дальше