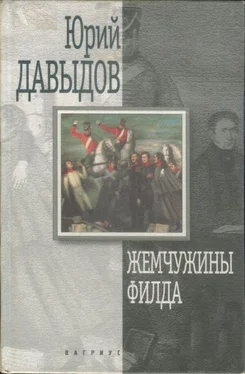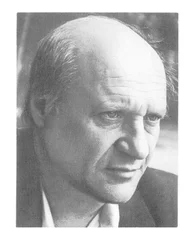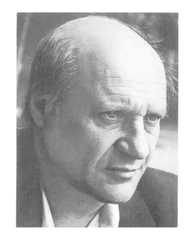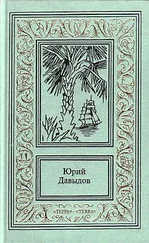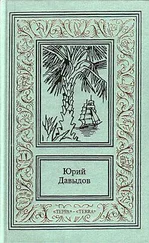Но гром покамест не грянул — майор Озерецковский хохотал.
Сидели они с Эразмом Ивановичем во флигеле дома Меняева, что в конце Шестилавочной, окнами на Невский. Приятели. Спознались они, когда завернул Озерецковский в город Симбирск: личный адъютант сопровождал его сиятельство в ревизионном обозрении губернии, а его сиятельство сопровождал его величество. Спознались, пришлись друг другу по сердцу. Отчего, почему? А черт знает почему, да ведь лучше беспричинного дружества не дано человекам.
Ну-с, и водки выпили, и закусили, теперь вино пили и курили. Эразм Иванович живописнейший рассказчик — голос меняет и жестом дорисовывает. А на крепком, загорелом, открытом лице хранит невозмутимость, только вот в серых глазах искорки разгораются.
Привелось, говорил, давешним летом усмирять мужичков. Взял воинскую команду. Труба: «ту-ру-ру». Трубой и обошлось, выпороли, и шабаш. Приспела жатва. Глядь-поглядь, и мужики, и бабы валом валят в мое имение. Хотим-де, барин, хлеба твои жать. Удивился: да я ж вас побил?! Побил, вздохнули мужики; побил, всплакнули бабы. Спрашиваю: так чего же вы? Объяснили: порка — что, порка — так, пустое, а ты ж нас от тюрьмы избавил, тюрьма-то разор… Нет, продолжал Эразм Иванович рассудительно, от такой теплой взятки не откажешься. Вот русский человек: сквозь наказание доброту видит. Порка нипочем, штука краткая, только не выдай пиявкам полицейским и судейским… А положение мужиков на дворцовых землях? Хуже некуда. Бывало, говорят, раз в году наедет исправник, сейчас это ты барана на плечи да и прешь подарок. А теперь набегут эти господа удельные, возьмешь хворостину да и гонишь живность, что есть на дворе. Теперь нам несравненно легче , скоро и вовсе портков лишимся.
Так они сумерничали. Невский стихал, полицейский конный патруль о два коня отцокал под окнами. Вечер был поздний, светлый. Пили вино, курили, оба без сюртуков, в белых рубашках. Эразм Иванович, отирая усы, продолжал.
Иду, брат, по городу, вижу старушку, подаю копейку, спрашиваю, на что тебе, старая, деньги, у тебя котомка хлебом полна? Платить надоть, родименькой, а то — в острог. Что врешь, кому платить? Полицмерскому все платят, ну, и я. Опять врешь, карга ты эдакая, где ему упомнить, вас же много. Э, батюшка, у него книжка такая, там кажный на счету… Ну, думаю, ужель не врет? А надобно сказать, полицмейстером у нас щеголь, бонвиван, ротмистр по кавалерии. Подумал, подумал да и напустил своего ваньку-каина: разбейся в лепешку, а книжку добудь. Добыл. Ба-а-атюшки, святых вон. Вообрази: несколько сот нищих, реестр — каков летами, какое качество, какова еженедельная подать… А на полях nota bene — такой-то не доплатил три копейки, возместит тогда-то… Вот завтра же рапортую по команде: так, мол, и так, обязанность русского патриота обнаруживать на пользу государства гениев; так, мол, и так, открыл я удивительного финансиста… И так далее, а книжку расчетную привез, никуда кавалерия не ускачет…
Майор со смеху покатился, бока сжал, закачался. Эразм Иванович доволен был произведенным эффектом. Пили вино, курили трубки. А потом Эразм Иванович и говорит майору: чего же мы, брат, вдвоем, надо бы и соседа угостить, у меня, прости, такое уж давнее, еще сибирское обыкновение. Лето, говорит майор, все разъехались. Ну нет, настаивал Стогов, зови. Майор послал денщика за Лукой Лукичом.
Хотя Милий Алексеевич еще и не приступил всерьез к очерку о синих тюльпанах, но указанная выше агентура иллюстрировала тезис о повседневной зависимости высшего надзора от нравственного уровня шушеры. А штаб-офицер Стогов, пусть и не типически, представлял один из жандармских округов. Но приглашение к выпивке, к заурядному препровождению времени какого-то Луки Лукича? Неудовольствие Милия Алексеевича объяснялось вовсе не тем, что этот приглашенный был «какой-то».
Башуцкий не испытывал холопского пристрастия (слова Пушкина) к царям и фаворитам и не заглядывал под альковные одеяла цариц. Последнее, как признак тихой женофобии, можно извинить. Отсутствие холопского пристрастия извинять не должно.
Материализуясь романно, оно, во-первых, взбадривает национальную гордость исторически вчерашних дворовых. Во-вторых, шибко тиражируясь, натурально возмещает нехватку ширпотреба. В-третьих, угощает культурным досугом и премьер-министров, и золотой фонд Вооруженных Сил, и сотрудников НИИ, и работников прилавка, и… и… и… Так что Башуцкий, презирая всенародное увлечение царями, царицами, фаворитами, как бы заместившее всенародное восхищение Лютым, повинен был в преступной нелюбви к величию России. А сверх того, в тайной чуждости принципу, согласно которому литература есть часть общепартийного дела.
Читать дальше