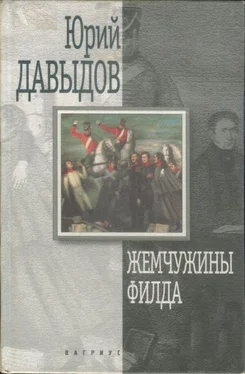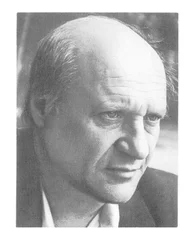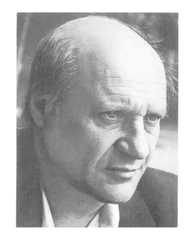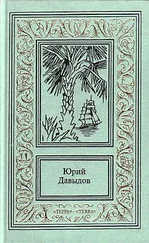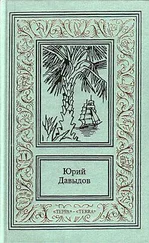В прошлые годы, едва миновав Кронштадт и Толбухин маяк, Александр Христофорович светло устремлялся в любезный душе приморский замок. Но вот уже смеркалось, залив подернулся сизым, сиреневым, ясный обломок солнца, словно бы подрагивая, окунался в волны, уже семейно поужинали, уже матросы стройно спели и про матушку Неву, и про волжских разбойников, а Бенкендорфа не оставляла угрюмая печаль.
За то краткое время, что Милий Алексеевич выпустил его из виду, Александр Христофорович сильно сдал. Перемену можно было бы отчасти объяснить недавней хворью. Медики опасались за его жизнь; государь навещал каждый день, а то и дважды на день; набережную Фонтанки выстлали соломой, утишивая гром экипажей. Да, осунулся Александр Христофорович, глаза и пожухли, и повлажнели, а какие были красивые глаза; приволакивал ногу, поредевшие волосы красил. Оставаясь бонвиваном, засматривался на русскую деву, которая, как известно, свежа в пыли снегов и в озаренье бала. Но засматривался как бы с некоторым принуждением, по привычке. Все это так, но печаль была душевная.
Недавняя болезнь не дала сопровождать, как всегда, государя в экспедиционной поездке по внутренним губерниям. Государь уверял, что лишь жестокая необходимость, лишь рекомендации лекарей — Рауха и Лерхе, дерптских выучеников, нельзя ослушаться — вынуждают его покинуть верного сопутника, пусть наберется сил в прекрасном Фалле, где он, Николай, провел дни незабвенные.
Бенкендорф был уверен, что государь не оставит письмами. Уверен был, что прочтет неизменное обращение: «Мой милый друг», а в конце увидит не это механическое: «Пребываю к Вам благосклонный», нет, умилится: «На всю жизнь любящий Вас Николай». Никаких признаков охлаждения не примечал Александр Христофорович. Ну, случалось получить взбучку. В годовщину коронации угораздило забыть мундир парадный, надел общеармейский да и вылетел, как ошпаренный, из государева кабинета, сокрушенно мотая головой: «Досталось! Досталось!» Ничего не скажешь, поделом. А вот чтобы его величество воззрился, как на других, стекленеющими глазами с кровавыми прожилками, — Бог миловал.
И все же закрадывалась потаенная щемящая тревога. Иной раз казалось, будто тяготит он государя, как, бывает, тяготят старые надежные слуги, утрачивая расторопность движений. И жалеют их, и досадуют на них.
Николай, принимая в команду Россию, замыслил многое упорядочить. Бенкендорф, получая вожделенное назначение, тоже. А теперь… теперь оба нередко исполняли дуэт барыни и барской барыни: хозяйки-распорядительницы и ее влиятельной наперсницы, что из года в год каждое утро битых два-три часа обсуждают, какой нынче обед заказать, и каждое утро объявляют повару, скучающему в дверном проеме: «Делай как вчера».
Бабья бестолочь? Не скажите. Консерватизм избавляет от несварения желудка; отказ от западных гастрономических новшеств есть род самостоянья. Но в рацион и барыни, и барской барыни уже вошел картофель, хотя еще недавно аристократка осьмнадцатого века говаривала, что картофель на Руси унизит достоинство россиянина. Он и унизил, да только гораздо позже — на овощных базах. Николай же Павлович, государь, хотел, чтобы картофель сеяли, окучивали, убирали мужики, свободные от крепостной зависимости. Но и от земли тоже свободные. «Земля принадлежит помещикам; это священное право никакая власть отнять не может». Власть, однако, и может, и обязана пресекать помещичий произвол, взращивая христианское, сообразное с законами обращение с крестьянами. Так думал и Бенкендорф. Но предупреждал: взрыв будет, и чем позднее, тем сильнее. Обсуживали, пересуживали, а все выходило: «Делай как вчера».
Бенкендорф, пожалуй, не обманывался: его величество несколько тяготился предметом своей пожизненной любви. Не потому, что Александр Христофорович чему-то мешал или, напротив, забегал вперед коренника. А потому, что своим поварам в синих мундирах не умел заказать разнообразное меню.
Нет, нет, помилуй Бог, государь не имел нужды в заговорах. Заговоры придумывают тираны, озабоченные упрочением своей власти; и, придумав, пускают юшку из якобы заговорщиков. Николай царствовал законно, в заговорах не нуждался. Да и Бенкендорф вряд ли изобрел бы что-либо сносное. А ростки крамолы Третье отделение выпалывало своевременно. Существовал, однако, вид крамолы неистребимой. Она обвивала ветвистое дерево законности нежно и цепко, как лианы. То не было ее священным правом, как право помещика на землю, а было правом, освященным веками. Никакая власть ее отнять не может? Даже высший надзор?
Читать дальше