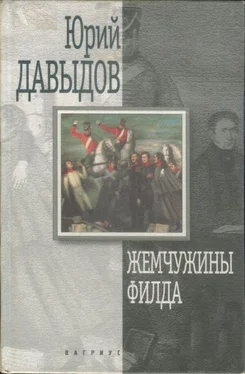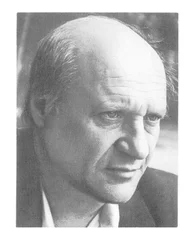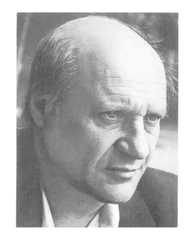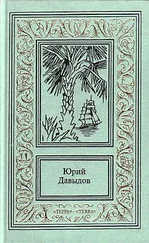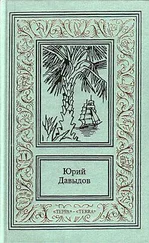Велел он кучеру держать к Демуту.
Давно гостиница Демута слыла в столице наилучшей. Живали там посланники, негоцианты, набитые деньгами, а значит, спесью, или бросал там якорь какой-нибудь накрахмаленный милорд, любитель путешествий, что сродни разведывательным действиям. Кошельки пожиже нанимали комнаты с единственным окном, оно бельмисто глядело в сумрак двора-колодца. Фасад взирал на Мойку; другой — в Конюшенную, но Большую. Платили здесь за стол с обедом рупь. За нумера помесячно от двадцати пяти до сорока. Кому охота, пусть определит соотношенье с курсом нынешним.
Трактир Демута близ Полицейского моста. А Полицейский мост ведь недалек от Красного, где тайная полиция. Не лучше ль было бы Михал Максимычу от огорчения пойти пешком, глядишь, и выплюнул бы душу, а вместе с ней и желчь. Так вправе рассуждать лишь тот, кто про шпионов не читал. А следственно, так рассуждать никто не вправе. Шпион Попов, заметьте, прибыл не в казенном экипаже, а в наемном. И с багажом. В заезжий дом приехал пензенский помещик, он либерал и литератор.
Он сам себе избрал «легенду». В гостинице-то при знакомстве неизбежны — откуда вы, как там у вас?.. Он Пензу помнил, помнил и окрестности: словесник имел и ботанические интересы и гимназистов на вакатах водил в сады, в поля и на луга… Что до «литератора», то здесь уж, сами понимаете, ему ль не карты в руки? И тут в его шпионстве возникал мотив довольно странный, хоть и навеянный заезжим домом. Тут Пушкин нумер брал. Чаадаев тут, бывало, принимал гостей; он в креслах сиживал, а рядом произрастал из кадки лавр, но не ботаника, а символ: Чаадаев в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес…
В таком расположенье души шпион расположился в душных комнатах, их было две, задушенных тяжелыми портьерами. Да, Палкин царствовал, но управляли у Демута коридорные, они не колотили палками, и все и вся здесь проницала пыль времен великая Екатерины.
Теперь ищи-ка, брат, знакомства с генералом. Ракееву-то хорошо, ракеевым отлично, им приглашения без нужды. А ты изволь входить в доверье… Ах, черт дери, что за комиссия, Создатель… И он подумал о биллиарде… Михал Максимыч не был игроком; биллиард был ракурсом литературы. Она, изящная, дарит немало встреч в биллиардных, из дыма извлекая черт-те что. И Ащеулов — военный глазомер! — там уместен. Да вот каков он видом?
Увидел на другой же день. Слуга покорный, отнюдь не гранд испанский Дон Гуан. Не великан, однако крупен. Белокур, курчав, а нос баклушей. Потом, уже в биллиардной, Попов и руки заприметил. О, большие, белизны холеной, весьма, весьма красноречивы, и наш шпион, слегка смутившись, предположил, что эти руки и есть то средство, которое определяет цель. Слегка смутился, а потому промазал. Вообще он проигрался в пух, как этого и ждал.
Генерал, как благородный победитель, пил с побежденным вино кометы. Но, может, и другое, счет не сохранился. А впрочем, бог с ним, со счетом. Тут важно по примеру романистов нам винной маркой обозначить психологию пушкинской эпохи.
Пал Палыч не имел бесстыдства трубить победу, он победил слабейшего, не то что Петр под Полтавой. Однако, как и Петр, Ащеулов пил его здоровье. Когда же пензенский помещик скромно намекнул, что он причастен к словесному искусству, генерал, как благородный человек, имел бесстыдство приятно улыбнуться: «Так это вы? Читал, читал…» Михал Максимыч, несколько зардевшись, поклонился.
Коли тебя читают, значит, ты печатаешь. Опять, как в случае с евреем Санчесом, певцом российских бань, произвели мы библиографические разыскания. И установили… Ай да Попов, ай да сукин сын. Ну, ни единой строчки цензурованной. (Печатал много позже, на седьмом десятке, да и то обозначал-то псевдонимом.) Хорош! Но кто, скажите, стал бы возражать? Ведь Ащеулов как бы выдавал авансом признанье и признательность. Бесстыдно было бы его разочаровывать, снижая скорость вхождения в сферу взаимной доверительности и обоюдного благожелания.
Как видите, приятством начались их рандеву. Пал Палыч, случалось, вызывал, как разводящий в караул, «пригожих женщин разных наций». Шпион конфузился, он пальцем ни одной не тронул. Согласитесь, в истории шпионства нет прецедентов. А эти дуры дули губы. Они, вишь, обижались, что русский господин, собой невидный и словно молью траченный, как бы дает понять его превосходительству, с какой он дрянью имеет дело, и тем выводит их в тираж. Здесь верно только то, что свой отчет об Ащеулове писал Попов в одном лишь экземпляре.
Читать дальше