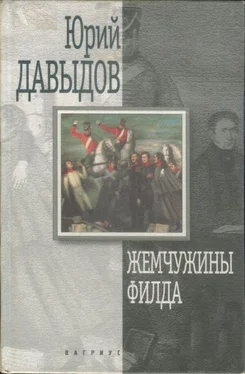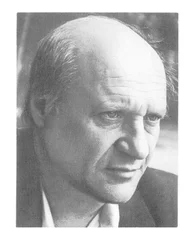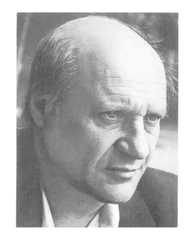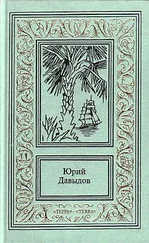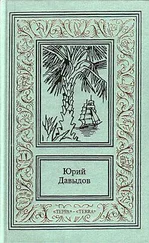Раввином можешь ты не стать, но вундеркиндом быть обязан. И посему в зубрежке книги «Бытия» сиротка наш все зубы съел, тогда еще молочные. Взамен он овладел — евреи так расчетливы — древнееврейским. Потом уж годы, годы над бесконечными пространствами Талмуда, в его бездонных глубях.
Знаете ли вы, как тиха украинская ночь? О да, прозрачно небо, звезды блещут. Мы все учились понемногу не где-нибудь, а в средней школе. Но знаете ли вы, что значит «знать Талмуд на иглу»? О-о, вы не учились в иешеботе, как Пинхус Бромберг.
А было так. Учитель-меламед раскроет Талмуд наобум да и воткнет с нажимом портняжную иглу. Все мальчики нишкнут. А меламед укажет: «Пусть отвечает Пинхус». И тот, не запинаясь, скажет, какие именно слова игла пронзила на всех страницах. Вот это, братья-сестры, да! Такое и не снилось изучавшим «Краткий курс». А почему? Да, знаете ли, автор зубы искрошил от ненависти к талмудам, взамен снискав — он был расчетлив — любовь народных масс. К тому ж на жесты он скупился. А талмудистам на диспутах не гож был ни сухорукий, ни плоскостопый.
В еврейских диспутах на талмудические темы жестам не было числа. Одним из главных считался большой палец. О, Господи, да это ж нашенское «на большой»! Дурное следствие проникновения местечек в повсеместность. Как хорошо, что призабылось. Но — заметим в скобках — что делать нам с субботой? Еврейский нерабочий день теперь уж всероссийский. И шире — на одной шестой. Попробуйте-ка отменить! Тотчас же социальный взрыв. И православный, и буддийский, и мусульманский. Суббота, черт дери, опять же следствие иудаизма.
Вернемся, впрочем, к жестам. Жестикуляция сильней артикуляции. Мысль изреченная есть ложь. Жест выразит ее неложно. Не устоишь ты в словопрении, евреи скажут, посмеиваясь в бороды: «Хе-хе, ни рук, ни ног у этого, и не хватило…» О Пинхусе, красе местечка, так не говорили.
Ему б в раввины. Но мы установили по ходу следствия — раввинов не было в роду у Бромбергов. Без генетической поддержки успеха не видать. Но импульс был из Вильны. Там дядя Соломон держал торговлю скобяным товаром. Племянника позвал, сказал, что жизнь прожить — не поле перейти, а волочить, как волокушу, товар, товар, товар. Не ограничившись советом, ссудил первоначальный капитал и приискал невесту.
Дензнаки были сальными, как ужас малолетства: изловит гой и, гогоча, отрефит — намажет губы салом. А то возьмет и запихает в судорожный рот колбасы шматок… Отрефят! Не то, что нынешнее племя, — меняется менталитет — все колбасы да колбасы.
Да, ассигнации он осязал; невесту — только после свадьбы.
Ривке Гитл (так в документе) было уж тринадцать — девчонка засиделась в девках. Однако не будем вторить еврейскому поэту, тот описал еврейку: изъеденные вшами косы да шеи лошадиный поворот. Нет, стройна и чернобрива. И Пинхус предельно искренне признал: «Ты мне посвящена кольцом по закону Моисея и Израиля».
На свадьбе наяривали скрипки, их урезонивал серьезный контрабас, а бубен отрешенно бил. Девицы, как и дамы, заслуженные во супружестве, танцевали. Но без кавалеров. Они, достойные мужчины, уже откушали куриного бульона; его златая зыбь надежно защищала тракт, который пищу нам варит, от бурных натисков напитков алкогольных, и кавалеры, не танцуя, лоснясь, хмелели весьма пристойно. Да вдруг и завели какой-то древний танец… Впрочем, нет, не вдруг, а когда уже невеста, потупясь, тихонько удалилась… Танец медленный, с припевом монотонным: «Берите, берите, берите его…» И ласковым тычком в три шеи словно б затолкали Пинхуса в ту комнату, где было ложе с приложеньем Гитель Ривки (так в документе).
Сказал бы вам, что, мол, она чувствовала в темноте, как у нее глаза блестят, да вы, уверен, глумливо усмехнетесь: позвольте-ка, чувство это принадлежит Карениной, которая скорее Анна, чем Ривка. Пусть так. Но вот что несомненно: Пинхус ей пришелся ко двору, и с этой ночи Ривка понесла.
А далее чету несла буда, пародия на дилижанс. И будущие папа-мама не куда-то ехали — домой, в местечко, где родился Пинхус Бромберг. Их с кровель провожали аисты. Им в поле жаворонок пел. Им было тесно, но не обидно. Смуглело лето, буда плыла враскачку, вперевалку.
Тяжелая, увалистая, она, стеная и скрипя, одолевала за день верст десять. Колыхались картузы, пыль порошила бороды и пейсы, и все сидели, как в приемной у дантиста. Но это бы куда ни шло. Возница слишком часто вспоминал, что и у лошадей есть право отдохнуть. Одры понуро отдувались. Возница флегматично трубочкой пых-пых. Поднимался ропот недовольных пассажиров. Рисунок нервных жестов был замысловат. Все пресекал возница беззлобным басом: «Хазаны, ша!»
Читать дальше