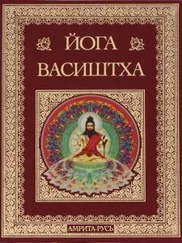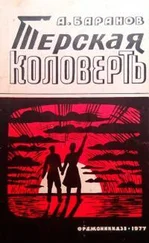— А как же горы? — не удовлетворился состоявшимся разговором Казбек.
— Что — горы? — вывернул из–под спутанных бровей светлые, похожие на подснежники глаза станичный философ.
— Тоже исчезнут? — мотнул козырьком своей кепки юный, собеседник в сторону протянувшейся с востока на запад зубчатой горной гряды, бело–розовой от восходящего солнца.
— Само собой. Пройдет тыща годов, а может, мильен, и от твоих гор только труха останется.
— Так, выходит, и жизнь невечна? — не унимался Казбек.
— Кто–зна… — пожал плечами Денис. — Только сдается мне, что жизня на земле ишо потянется, ежли люди не придумают какой–нибудь хреновины похужей пулеметов и газов.
— Зачем же ты, дядька Денис, в коммуну пошел, если все на свете тлен и все равно — помирать?
— У тебя не спросился, порося сопливого, — нахмурился Денис. — Оттого и пошел, что хотится мне остатние годы свои прожить с пользой для общего дела. Чтоб без собачьей грызни и обмана. В единой братской семье: как говорится, один за всех, а все — за одного.
В это время телега, миновав площадь, вкатилась в Большую улицу, из крайнего дома которой, слева, вышла казачка с лоханью в оголенных до локтей руках и бесцеремонно выплеснула ее содержимое под копыта Денисовой лошади.
— Это как же понимать, удачи нам желаешь, что ли? — крикнул Денис, притормаживая свой расхлябанный транспорт напротив обитых цинковым железом ворот, из которых вышла казачка. — Здорово–дневала, Ольга!
Казачка остановилась, обернувшись, приставила к глазам ладонь — от солнца.
— Будь здоров и ты, Денис Платоныч, — сверкнула она зубами в ответной усмешке. — Доброго тебе путя и полную лохань прибыли.
Тут только Казбек узнал в этой статной красивой женщине ту самую тетку Ольгу, с которой разговаривал однажды на терском берегу, у мостков, будучи еще мальчишкой.
— У нашей прибыли в драке зубы выбили, как гутарит дед Хархаль, — скривил рот Денис. — А еще он говорит: «Хоть мал барышок, да в свой горшок». Чего ж к нам в коммуну не идешь? — переменил он разговор.
— А что там делать в вашей коммуне? Свистеть в кулак с голоду? Кубыть, твоя Стешка тоже не дюже спешит туда подаваться. Умные люди, они нонеча не в коммуны, а на хутора метят.
— Это ты про Кондрата?
— А хучь бы и про Кондрата. Окна досками заколотил — и на Индюшкин хутор богачество наживать.
— Не прошибся бы с хутором.
— У него, говорят, уже овец отара и лошадей табунок. А у вас в коммуне один верблюд заморенный и жондирка [1] «Джон Дир» — жатка американского производства.
без колеса, да и той косить нечего.
— Гм… — Денис опустил на глаза колосья бровей. — Кубыть, не тую песню поешь ты, атаманская сноха. Не у Евлампия, часом, наслушалась? А верблюда мы своего откормим и жатку починим, дай срок. И косить у нас будет чего, вот только дождемся трактора.
— Покель вы его дождетесь, на горе рак свистнет… А Евлампий Ежов с Федотом Урыловым да с Кирюхой Несытенковым, те не дожидаются, в ТОЗ [2] Товарищество по совместной обработке земли
вступили и уж трактор выписали, на днях пригонят. Ну, я пошла, а то у меня поросенок не кормлен…
— Эх, ты, пшидока луковская, как сказала бы моя Стешка, — покачал головой вслед казачке огорченный Денис. — А еще называется релюцинерка. Ведь мы с тобой, Ольга Силантьевна, за коммуны эти воевали, жизню свою не жалели.
Как ужаленная обернулась на его последние слова Ольга.
— А ты знаешь, почему я вместе с вами воевала? — процедила она сквозь зубы. — Знаешь, почему против родного отца пошла? Да я, могет быть, случись иначе, не только в твою коммуну — в Сибирь бы пошла, не охнула, — голос у нее прервался, лицо перекосилось гримасой страдания. — Э, да что с тобой гутарить… — она махнула свободной от лохани рукой и стремительно пошла прочь.
Денис некоторое время озадаченно смотрел на захлопнувшуюся калитку.
— Обижена бабочка, — вздохнул он сочувственно и тронул коня: — А ну, ходи веселей!
— Кто ее обидел? — спросил Казбек.
— Человек один…
— Плохой?
— Да нет, человек он хороший. Да видишь ли, какое дело… Как бы тебе потолковей объяснить… Он был командиром нашей сотни. Это еще во время бичераховского бунта — мы тогда под Георгиевском бои вели. Я был при нем навроде стремянного, ну а она — санитарка не санитарка, жена не жена, а только, все это видели, любила она его пуще своей жизни. Когда он был ранет, от него ни на час не отходила, извелась вся не спавши. Такая пара была, я тебе скажу, — на загляденье. Да вот беда: командир–то женат оказался…
Читать дальше