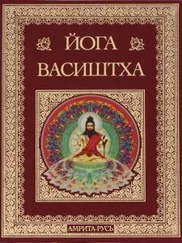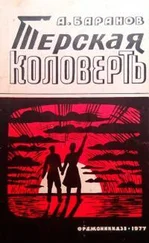Осторожно, словно боясь причинить боль, Степан притронулся к искусно сделанному парику — из–под него блеснула золотая, знакомая с давних пор сережка. «Из земли вы пришли, в землю и уйдете», — подумал Степан и прикрыл серьгу выскользнувшим из–под парика золотистым локоном.
— Куда ты ее сейчас? — обернулся к Дмыховской.
— В больницу. Пусть врачи засвидетельствуют смерть.
— А потом?
— Где–нибудь закопаем. Не склеп же ей гранитный возводить за ее подвиги.
— Отвези в Луковскую к ее крестной матери, она похоронит.
— Не много ли чести?
— Делай, как говорят! — вспылил Степан, но тут же взял себя в руки. — А этого, — он кивнул головой на понуро сидящего Недомерка, — ко мне в отделение.
Больше он не сказал ни слова, сел на коня и ускакал к себе на службу. Там, пройдя в свой кабинет, уселся за стол и глубоко задумался над прожитой жизнью. Вспомнил, как преследуемый царскими ищейками забрел на осетинский хутор и встретил там свою будущую жену и как судьба–насмешница тогда же свела его с другой не менее обаятельной женщиной. Сколько душевных мук перенес он, клонясь на весах любви то к одной, то к другой в зависимости от тяжести бросаемых ими на чаши весов гирь. И вот одна из этих чаш пуста. Но почему и теперь весы сохраняют равновесие?
Он просидел в кабинете допоздна, перебирая одну за другой вехи своей жизни и наполняя пепельницу окурками. Правильно ли он жил все это время? Вроде бы правильно. Все делал по велению совести и долга перед своим народом. Не щадил себя во имя великой идеи, не прятался за других. Но почему на душе так муторно, словно после кошмарного сна или с похмелья? Ага, похмелье и есть. Затяжное. Глубокое. Бражничал в 18‑м году, а похмелье наступило аж в 25‑м. «Это тебе за Андрейку!» — неспроста обожгла его Ольга плетью, уводя от бандитов с холодовского хутора. Что теперь прикажете делать? Как сказать об этом жене? Ведь не оставит же он в детдоме собственного сына! Может быть, отправить его с отцом в Белоруссию? Пройдет какое–то время — он признается Сона… Не то. Уж лучше признаться сразу. Вот сейчас он придет домой, откроет дверь и скажет: «Сона…». «О боже великий!» — как воскликнул бы тесть Данел на его месте. Как же он ей скажет?
Однако говорить ему ничего не пришлось. Едва он перешагнул порог своей квартиры, как Сона шикнула на него с выражением испуга на лице:
— Тише ради всех святых, ты их разбудишь!
Он оторопело взглянул по направлению ее вытянутой руки — там, у стены на диване, кто–то спал, укрытый ватным одеялом.
— Кого? — прошептал он в ответ.
— Наших детей, — Сона, взяв за руку мужа, подвела его к дивану, на одном конце которого спала с соской во рту новорожденная хуторянка Залина, а на другом — детдомовский воспитанник Андрей.
— Сона… — Степан сделал попытку обнять жену, но она отстранилась и, закрыв руками лицо, с рыданием убежала в спальню.
Степан не пошел следом. Опустившись на стул, он достал из кармана папиросу и долго разминал ее, не в силах прийти в себя: сегодня Сона положила на весы его любви самую тяжелую свою гирю. Не потому ли так полегчало вдруг у него на душе?
«Джон Дир» — жатка американского производства.
Товарищество по совместной обработке земли
Каждая станица имела свое прозвище. Так, стодеревцев называли требушатниками, галюгаевцев — лягушатниками и т. д.
Иди свободным (чеч.)
Наша мать (осет.)
До свидания (осет.)
Пожелание счастливой дороги (осет.).
Родинка и есть Млау, по–осетински.
Про того, кто любит спорить (осет.).
Божество благодати в осетинской мифологии.
Осетинская печь существенно отличалась от русской печи. Она находилась в жилой комнате в виде плиты с вмазанным в нее сверху котлом для варки пищи, а ее, похожая на камни топка, с прямым и довольно широким дымоходом — за стеной, в сенях (прим. авт.).
Подпорки для помиродов (каз.).
Лишенный смысла возглас во время пляски (каз.).
Охрана материнства и детей.
Искаженное осетинское «хорз уай» — ходи хорошо!
Ой, господи! (чеч.).
Возглас восторга (чеч.).
Старинный кремневый пистолет, изделие горских мастеров.
Читать дальше