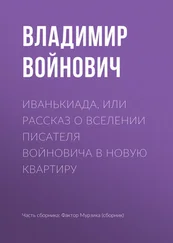— И изловить революционеров, — насмешливо сказал арестант. — Напрасно вы стараетесь, господин прокурор. Ваши уловки мне известны, и не надо разыгрывать передо мной весь этот спектакль. Ведь я все равно не верю ни одному вашему слову. Все вы врете, господин прокурор.
— Вот как? — прокурор обиженно посмотрел на собеседника. Потом порылся во внутреннем кармане сюртука, вынул и положил перед арестантом выцветший дагерротип, на котором изображены были две девочки, две одинаковые малышки в белых платьицах с белыми бантиками.
— Вот, — сказал прокурор волнуясь. — Если я их обманываю, то как я потом посмотрю им в глаза? Эх, Григорий! — Он встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Жаль, очень жаль, что мы с вами не можем найти общего языка. Но мы еще поговорим.
А почему бы, собственно, и не поговорить? Прокурор живет не в одиночной камере, а в своей прекрасной квартире. И, вызывая арестанта каждое утро к себе в кабинет, он ведет неторопливый проникновенный разговор и вносит смятение в душу своего собеседника.
А разговор все о том же. Правительство готово пойти на самые серьезные социальные преобразования. Но оно не может идти на них под угрозой насилия. Если нигилисты действительно озабочены судьбой России, они должны сложить оружие. Для того чтобы правительство могло действовать на благо отечества, оно должно знать, что представляет собой социально-революционная партия, ее состав, ее планы. Нет, не для того чтобы расправиться с ней. Правительство вовсе не намерено казнить нигилистов. Правительство состоит не из кровожадных зверей.
Оно устало от крови и хочет мира, и только мира. Ко для достижения мира оно должно знать размеры опасности. Сообщить все, что ему известно о партии, — не предательство, а мужество и долг арестанта…
Арестант пока молчит. Молчит в кабинете прокурора, потому что не верит ему. Но своему соседу по камере Федору Курицыну, который выдает себя за революционера и единомышленника, он верит и многое рассказывает ему, а тот — прокурору. А прокурор, не проявляя своей осведомленности, продолжает изо дня в день вести доверительный разговор по душам. Охотно рассказывает о себе, о своих малышках. Понимая тяжелое положение арестанта, приказывает удлинить прогулки. Даже разрешает матери пожить с сыном в камере. Конечно, это против всех правил. Но Добржинский не только прокурор, но и человек. Отчего бы и не облегчить чужие страдания, если это в его силах! И на мать он производит самое лучшее впечатление. Удивительно: прокурор, а с какой трогательной заботой; с каким беспокойством говорил о ее сыне!
И арестант не остается равнодушным к усилиям прокурора. В смятенную душу вкрадываются сомнения. В том, что говорит прокурор, есть какой-то резон. Может, действительно, тот путь, о котором он говорит, есть единственная возможность соединить все усилия для блага России? Благо России… Ради него он жертвовал своей жизнью, теперь пожертвует и своим добрым именем. Пусть его проклянут товарищи. Но когда-нибудь они поймут, что так было надо.
И арестант делает новый шаг к пропасти:
— Велите отвести меня в камеру, дайте бумаги, чернил, я подумаю.
Делопроизводитель Третьего отделения собственной его величества канцелярии Николай Васильевич Клеточников укладывал обработанные бумаги в разноцветные папки и аккуратными бантиками завязывал шелковые тесемки, когда: его вызвал к себе господин Кириллов, начальник 3-й экспедиции.
— Николай Васильевич, — сказал Кириллов виновато, — опять придется задержаться. Надо срочно переписать важный материал для царя, а, кроме вас, поручить некому.
Николай Васильевич снискал уважение начальства своим каллиграфическим почерком и тем, что с одинаковым прилежанием относился к любой работе. Клеточников был одинок, слаб здоровьем, не пил, не увлекался женщинами, и, если его просили остаться вечером для срочной работы, он не отказывался.
Получив от Кириллова нужные бумаги, Клеточников вернулся на свое место. Сосед его, запиравший ящики, сочувственно посмотрел на Николая Васильевича:
— Опять?
— Опять, — вздохнул Клеточников.
— Слишком старательный ты, Николай. Оттого на тебе и воду возят.
Клеточников ничего не ответил. Подождав, покуда сосед уйдет, он выпил бутылку молока с французской булкой, очинил перья, положил слева от себя бумаги, полученные от Кириллова, а прямо перед собой стопку чистой гербовой бумаги. И своим четким каллиграфическим почерком начал вычерчивать букву за буквой:
Читать дальше
![Владимир Войнович Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер] обложка книги](/books/427293/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere-cover.webp)