Опять я просидела шесть часов. На этот раз следователь кричал, стучал по столу кулаком, обзывал меня политической проституткой, обещал мне, что я никогда не увижу своих детей, что их отдадут в детский дом, чтобы изолировать их от влияния моей разложившейся семьи. (Этого я боялась больше всего потому, что в детских домах меняли детям фамилии, и их уже никогда нельзя было найти. Так говорили у нас в камере. Я думаю, что эти слухи распространяли сами следователи, чтобы нас еще больше запугать.)
И я опять вернулась в камеру, и опять ждала, но больше меня уже не вызывали.
Следствие кончилось.
Я была «разоблачена». Следователь составил материал для суда, в котором он доказывал, что я — преступница.
Этому человеку сейчас около пятидесяти лет. Где-то он живет. И я думаю, его даже совесть не тревожит — ведь он «выполнял свой долг»!
Дар матери
В нашу камеру попали мать и дочь. Это был единственный случай, когда родных не разъединили по каким-то соображениям. Матери было семьдесят пять лет, дочери сорок. Мать — внучка сосланного в Сибирь декабриста, чистенькая, домовитая старушка, очень религиозная.
Внимательно поглядывала вокруг и только руками разводила. Выслушает какую-нибудь горестную повесть, пожмет плечами и скажет:
— Давайте-ка лучше чай пить с сухариками! Я посушила на батарее. — А сухарики аккуратно нарезаны ниткой (ножей ведь в тюрьме не бывает), хорошо высушены, посыпаны солью.
Дочка, Тамара Константиновна, — врач. Материнская порода чувствовалась во всем: внешне спокойная, всегда подтянутая. А выдержка ей была очень нужна; ей вменяли тяжелое преступление по 8-му пункту (террор). Следователь поклялся добиться ее признания и применял к ней весь арсенал своих средств. Ее запугивали, били, по пять-восемь суток она сидела в холодном карцере на хлебе и воде за грубость на следствии и запирательство. Вызывали ее каждую ночь, а днем ей не давали спать. Бывало, придет бедная Тамара Константиновна в восемь часов утра, сядет спиной к двери и сидя хочет поспать. Тотчас же окрик: «Не спать». Так она мучилась целыми днями. Мать и мы все ее загораживали, а нас отгоняли.
После отбоя, только она ляжет, — лязг ключа и голос дежурного: «Собирайтесь на допрос».
При всей своей выдержке она менялась в лице, и слезы катились из глаз. А мать крестила ее и шептала:
— Мужайся!
Дело дочери оборачивалось плохо, несмотря на то что она не подписала ни одного протокола. Много было показаний на нее, бессмысленных, явно выбитых, но вполне достаточных, чтобы погубить ее, обеспечить ей 15 лет. (Их она впоследствии и получила.)
А мать почему-то решили отпустить. Почему так было — никто не знал. Пути следствия неисповедимы, но по целому ряду признаков было ясно, что ее отпустят. И вот однажды вошел в камеру корпусной и вызвал нашу старушку с вещами. Мы поняли, что на волю. (Так оно и оказалось.) Милая наша старушка раздала в камере все свои вещи — кому расческу, кому зубную щетку, кому теплые носки. Дочери отдала все самое лучшее, а потом перекрестила ее и сказала: «Благословляю тебя материнским благословением и разрешаю, если очень плохо будет, наложить на себя руки. Не надо мучиться. Грех твой перед Богом беру на себя!» Тамара Константиновна целовала ее руку и плакала, а мать крестила ее, молилась, и такое чудесное, такое светлое было у нее лицо, точно дарила она дочери своей жизнь.
Бутырская тюрьма в 1936 году
Через четыре месяца пребывания на Лубянке вечером в двери открылось окошечко и дежурный сказал:
— Слиозберг, с вещами.
Женя подошла ко мне:
— Видите, я была права. Вы идете на волю. Я счастлива за вас. Помните о нас, оставшихся здесь.
Мы поцеловались. Женя была очень хороший человек. Она действительно радовалась, думая, что я иду на волю. А другие немного завидовали. Я это знаю по себе: и рада за товарища, если ему повезло, и как-то сердце за себя больше болит.
Жени Быховской уже не было в нашей камере, у нее кончилось следствие, и ее куда-то перевели.
Александра Михайловна была уверена, что я иду не на волю, а в другую камеру. Соня молчала.
Мы попрощались, и я вышла. Меня в сопровождении конвоира провели во двор и посадили в «черный ворон». Если кто-нибудь не знает, что это такое, я объясню: это зеленая [1] В 1936 году в Москве «черный ворон» был зеленого цвета. В 1949 году во время моего повторного ареста «черный ворон» выглядел иначе: на железном кузове было написано: «Хлеб», «Мясо». — Прим. автора .
закрытая машина для перевозки заключенных. Внутри она разделена на одиночные купе, такие тесные, что люди с длинными ногами должны были их поджимать, а то прищемит дверью. В 1937 году эти машины были столь популярны, что в одной школе первоклассники на вопрос «Какого цвета ворон?» дружно ответили: «Зеленого».
Читать дальше
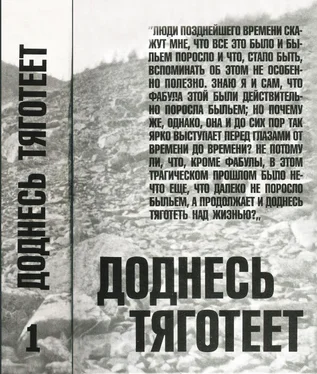
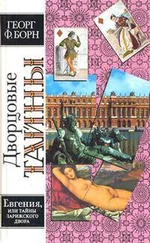








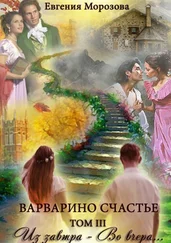

![[frank_sparral] - Анаксаген. Том I. Записки сумасшедшего](/books/542691/frank-sparral-anaksagen-tom-i-zapiski-sumasshed-thumb.webp)