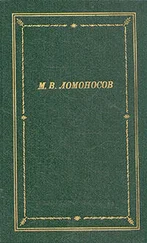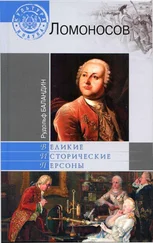Все годы учения Ломоносова волновало российское стихосложение. Давно это началось и всю жизнь не кончалось. В детстве слушал сказки, песни, прибаутки, все они были рифмованы. Затем стал читать разное: в писаных русских книгах стихов вроде не было, но и тут в иных выражениях и поучениях слова часто рифмовались, иногда на целые страницы ложась сложной причудливой лесенкой.
Когда в юность вступил, ощутил большое влияние Тредиаковского. Многое в его сочинениях восхищало, трогало. А здесь, на чужбине, строки, писанные Тредиаковским в своё время из Парижа, волновали, будто его, Ломоносова, лично касались:
Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальни...
Но отнюдь не всё у Тредиаковского звучало так легко и проникновенно. Много было тяжеловесных виршей, таких, что весь стих в них держался на одинаковом числе слогов в каждой строчке и рифмы были порой тяжелы и несозвучны.
Слогов в строку накладывалось много, двенадцать и более, пока последние отбиваешь языком, первые забываются. А Тредиаковский всё сие в правило возвёл, так советовал делать. Давал рецепты, приводил примеры в своём «Новом кратком способе к сложению российских стихов», книжице, давно изученной и осмысленной Ломоносовым. Но стих, построенный по сим правилам, не взлетал сам и не побуждал взлететь вслед за ним человеческую мысль.
Ломоносову хотелось писать по-своему, легче, ритмичней, короче. Многие вечера, если они были свободны от других дел или прямо между делами и вместе с ними, Ломоносов строил свои стихи. Сколь ни напрягался мозг в попытке постичь какое-либо явление природы, всегда оставалось место и для возвышенных мыслей, и он, прямо между математическими формулами, набрасывает стихотворные строки:
Сладкой думой без кручины
Веселится голова...
А тут ещё образ Елизаветы, прельстительный, мыслимый и одновременно земной, реальный и ежедневно зримый, не давал покоя. С некоего времени он стал постоянно чувствовать её присутствие. При мимолётных встречах на лестнице, во дворе, в прихожей дома и даже в кухне, когда маменька отвернётся и не глядит, обливали Михайлу нежным вниманием кокетливо-лукавые глазки юной Елизабеты. Не был робок Михаила, в анахореты себя не записывал и книжным червём становиться не собирался. Елизабета волновала его, притягивала, но всю первую зиму он её остерегался, боясь обжечься, самолюбие-то у него было ой какое! Стоило ли подвергать его потрясению: сунешься, по мордасам получишь, а потом что?
Но в стихах Ломоносов не лукавил, искал и находил в них отдушину для сердечных излияний:
А гуслей тон моих
Звенит одну любовь.
Стянул на новый лад
Недавно струны все.
Что ж! Струны души вторят настроению, и сей «новый лад» душевных струн окрылил жизнь его радостью. Молодость властно требовала и младых утех, зажигала сердце волнительной страстью.
Сердце — радостно при лире,
Не желая чести в мире,
Счастье лишь одно поёт.
Кончилась зима, и в первое же лето в душу прокралась ревность. Появились и другие певцы, кои не упустили очарования юной метхен. Как-то тёплым вечером, когда все сидели за ужином и Ломоносов тешил себя созерцанием пухлых губок и уже весьма выпиравших из-под платья прелестей «прекрасной Галатеи», под окном вдруг раздались призывные звуки мандолины и томный голос, слегка фальшивя, завёл сладкую немецкую мелодию, где пелось про негу, счастье любви и тому подобное.
Надо же! Когда такие мысли Михайла поверял бумаге сам, ему сие нравилось. Но как только похожие слова полились с чужого голоса, он разозлился. Однако все остальные обитатели дома Цильх сначала замерли в приятном изумлении, а затем бросились к по-летнему раскрытым окнам.
О чудная Лизхен, даруя нам свет,
Алеешь под солнцем, как маков цвет... —
выводил с лёгким дребезжанием молодой фальцет,
Что-то в этом голосе Ломоносову сразу почудилось знакомое. И вдруг будто вспыхнуло, выплыло в памяти: «Эге!.. ландлисе хане... покукарекайте для нас!..»
Под окном стоял молодой человек в камзоле с дорогой отделкой, в атласных белых чулках и блистающих глянцем башмаках. Сзади с двумя мандолинами и гитарой расположились трое услужливых приятелей, одетых столь же богато и лишь в подражание итальянским «мандолиньеро» заменивших свои тирольки широкополыми шляпами и цветными шарфами. Правда, треньканье их звучало неискусно, да и голос певца был вовсе не «бель канто», но всё равно сие всё гляделось вальяжно и впечатлительно. Когда в окнах показались обитатели дома и хорошенькая головка Елизабеты, молодой человек, затянув голосом высокую поту, сдёрнул с головы свою шляпу и, отставив левую ногу, галантно замахал рукой, подметая шляпой землю, весь изображая преданность и восхищение «ди рейценд метхен», очаровательной девушкой.
Читать дальше