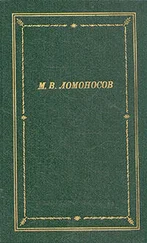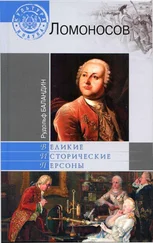— Михайло Васильевич, — прервал его размышления Симеон, — к вам господин профессор Тредиаковский пожаловали.
— Вот как? — удивлённо откликнулся Ломоносов, отрываясь от книги и непроизвольно окидывая взглядом своё скорбное помещение. — Ну, проси.
— Они изволили сказать, чтобы вы к ним поднялись.
— Ишь ты! Это кто же к кому тогда пожалует? Да и что Шумахер скажет, ежели я каземат свой не для бани и не на двор сходить покину? Он же всё унюхает? — уже насмешливо, хотя и понимал, что Симеон в его сарказме не разберётся, спросил Ломоносов.
— Господин Тредиаковский сказали, что они испросили соизволения.
— Ну, ежели Шулермахер высочайше разрешил, пойду, — нарочито переиначивая фамилию Шумахера, в котором он видел корень многих своих бед, отозвался Ломоносов. И в чём был: в халате, шлёпанцах и шерстяном платке на шее — направился к выходу.
— Одели бы кафтан, пошто в халате-то... — подсказал было Симеон, но Ломоносов отмахнулся:
— Неважно, в чём я; важно, что я.
Тредиаковский — сорокалетний мужчина, с гладко выбритым лицом, одетый в скромный чёрный сюртук, отделанный бордовым кантом, и белую с воланами на груди и манжетах рубашку, — сидел в кресле в боковом от вестибюля покое. Встречая Ломоносова, встал, вежливо поклонился, приглашающе показал на соседнее кресло и, как бы не замечая совершенно непотребного вида вошедшего, столь противоположного его костюму, произнёс:
— Рад приветствовать вас, дорогой коллега, в добром здравии.
— Благодарствую. Я есьм здрав и прав, да вот не по нутру иным мой нрав, — в рифму, не задумываясь, ответил Ломоносов.
Однако Тредиаковский уклонился от обсуждения правоты или вины Ломоносова и его нрава и ответил вежливым комплиментом:
— Стих у вас слагается легко, Михайло Васильевич. Оттого мы с господином Сумароковым и решили предложить вам конкурс.
— Это что же — на кулачках драться иль умом состязаться? — опять в рифму и опять довольно дерзко спросил Ломоносов.
— Выбором, какие сочтём достойными, древнеславянские писания и стихами на российский язык переложим, — опять ровным тоном ответил Тредиаковский и снова кончил комплиментом: — Вас же к тому делу приглашаем, как уже способного поэта.
— Что же. Я рад выступить в столь почтенной компании, — теперь уж спокойно ответил Ломоносов. — Однако боюсь, господин Сумароков вовсе не столь, как вы, к моей персоне расположен, — добавил он, намекая на давнишнюю и ревнивую нелюбовь дворянского поэта Сумарокова к мужику Ломоносову.
— О нет, Михайло Васильевич. Господин Сумароков преисполнен уважения ко всем стихотворцам, возделывающим ниву российской поэзии, — ответил Тредиаковский более от себя, нежели опираясь на мнение Сумарокова.
Беседа потекла спокойно. Тредиаковский мягко не заметил задиристых намёков Ломоносова, дипломатично обошёл разницу их нынешних положений, а Ломоносов, поняв и оценив его тактичность, тоже смягчился и повёл беседу в дружелюбном тоне. Правда, Тредиаковский долго и задумчиво качал головой, услыхав идею перелагать, раз речь зашла о древнеславянском, избранные псалмы псалтыря. Но резону Ломоносова о том, что это на Руси самая распространённая книга, противопоставить ничего не мог. И потому сказал, что посоветуется с господином Сумароковым и сообщит их обоюдное решение.
Ещё поговорили и на том расстались. Ломоносов же после получения согласительного письма весь июль работал над стихами и переслал сделанное Тредиаковскому в означенный срок. А в конце августа Степан Крашенинников, почтительно склоняясь, принёс в подвал к Ломоносову серенько изданную книжечку под названием «Три оды парафрастические псалма 143», изданную за счёт авторов тиражом 350 экземпляров. Немного смущаясь, Степан при сем объявил по поручению Тредиаковского, что издание книжечки обошлось в 14 рублей 50 копеек с разложением сей суммы на трёх авторов. И, глянув на изумлённо вскинувшиеся в безмолвном вопросе глаза Ломоносова, поспешно добавил:
— Как сообщил господин Тредиаковский, вашу долю, Михайло Васильевич, он взаимообразно внёс из своих средств.
Последнее время сильно стал ворчать Симеон.
— Ну што ты, Михайло Васильевич, в гордыне своём замкнулся? — сердито спрашивал он, макая в соль редьку, коя вместе с хлебом только и бывала у них на столе в конце лета. — Составь прошение, повинись. Глядишь, Шумахер кое с кем поговорит. И то, можа, делу во дворце более скорый ход даст?
Ломоносов, устав отмалчиваться, как он раньше лишь и делал, неохотно ответил:
Читать дальше