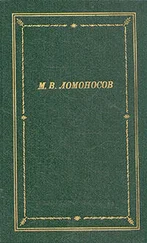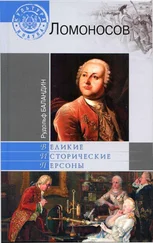Иван, когда его слушали со вниманием, загорался, объяснял с охотой и понятно. А как-то начал на него Измайлов по-пустому орать, послушал его Иван, послушал да и сказал ему по-ломоносовски:
— А ведь ты, поручик Измайлов, дурак!
Измайлов даже глаза выпучил от такой дерзости, едва ли не за шпагу схватился, но, видя на лице Ивана не злость, а сожалеющую улыбку, не нашёл ничего иного, как спросить:
— Это почему же я дурак?
— А вот почему. Кто такой дурак? Дурак — это тот, кто ничего по своему делу не смыслит, не умеет и обучаться не хочет.
— Так что же, — опешил Измайлов, отложив свой крик, но лишь стремясь осмыслить поставленную дилемму — дурак он или не дурак? — Так что же, я, по-твоему, ничего таки не умею?
— По своей артиллерийской должности пока ничего, — спокойно и по-прежнему дружелюбно ответил Иван. — Вот подумай. Положим, неприятель засел на позиции да за валами. — Иван, протянув руку, показал, где мог бы засесть воображаемый неприятель. — Тебе его выбить надо. Так что, вскочишь на коня и помчишься на него с саблей?
— И с саблей не струшу, и в штыки не оробею, — гордо ответил Измайлов.
— Не оробеешь, верю. Да только неприятель тебя прежде из-за укрытия укокошит. А с тобою и твоих солдатиков. И грех за то на тебя падёт! Так не лучше ли, прежде чем шашками махать, умом пошевелить и вот с этими пушками неприятеля выбить. А уж потом скакать на позицию!
— Оно, может, и так, — примирительно согласился Измайлов.
— Ну а раз так, то учись стрелять. Потом и солдат своих научишь.
И Харизомесос взялся за Измайлова. Объяснял ему, как стреляет пушка, как летит ядро, чем прямая наводка отличается от навесной. Пришлось и математику затронуть и объяснять.
— Вот смотри, — учил он, объясняя, как пользоваться таблицами, как наводить, как исчислять траекторию. — Видишь, сколь сильно гаубица от простых пушек отличается. Ядро сверху бьёт! А ежели по массе вражьей пехоты или кавалерии не ядром, а картечью ударить, каково противнику придётся? Картечь-то сверху сыплет, чем от неё закроешься?
Фёдор слушал, потихоньку просвещался, а потом в пользе артиллерийской науки совершенно уверился. А когда время пришло Ивану покидать полк, поручик Измайлов, нарушив все регламенты, пригласил Ивана к себе на квартиру, соорудил стол, выставил вино и не скрывал своего сожаления о разлуке.
— Эх, Ванька, добрый бы из тебя офицер вышел!
Вернувшись домой, Иван всё доложил Ломоносову. Ещё раз выверили таблицы и представили их Главной Артиллерийской Канцелярии для внедрения в войска, и всё то было принято. О наладке вот этих-то гаубиц и напомнил Шувалов Ломоносову. А тот гордился, что принял посильное участие в создании сих навесом стреляющих пушек. И то, что их назвали «шуваловскими гаубицами», ничуть не задевало. Пусть будут шуваловские, лишь бы русские. И чтобы врагов России уверенно поражали, а остальное неважно.
Не прошли даром многие годы ломоносовских стараний, хлопот и ходатайств перед властями предержащими и сильными мира сего об открытии Московского университета. В июле 1754 года с фельдъегерской почтой получил из Москвы Михайла Васильевич большой пакет от Шувалова. Был пакет по углам и в середине украшен пятью сургучными печатями с графскими гербами на них. Вручил его Ломоносову под роспись засыпанный дорожной пылью утомлённый офицер, который мчал из Москвы в фельдъегерской коляске с курьерской скоростью.
Однако в пакете был всего лишь черновик доношения Ивана Шувалова Сенату. Черновик о важном, об открытии в Москве университета. Но ведь черновик же! При чём тут фельдъегерь? Ломоносов пожал плечами, отпустил офицера и стал читать письмо Шувалова. Тот просил Ломоносова над черновиком подумать и дать свои поправки.
Обо всём том много раз было говорено-переговорено, писано-переписано. И в том черновике Ломоносов свои собственные фразы узнавал из прежде поданных им Шувалову памятных записок. И почему много лет молчали, не шевелились, а теперь фельдъегерей гнать начали — уму непостижимо. Однако поспешил ответить: «К великой моей радости, я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества».
Подумал, как бы в спешке не заложили такого, что потом оказалось бы негодным. И потому приписал: «...советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план приложить могу».
Читать дальше