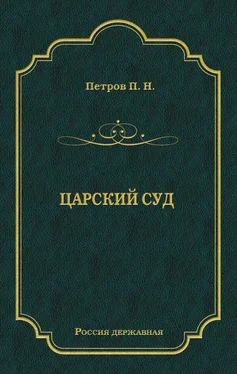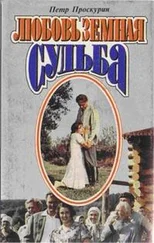– Готова верить, коли говоришь и потому что не желаешь ты мне лиха – не можешь и деток моих, и бедную мою Глашеньку по миру пустить… оставить без крова…
– Разумеется, нет, да чем же я показал намерение повредить-то тебе, кума?.. Уж изволишь, за приязнь мою, клевету изводить… Тебе я совсем не хочу и не позволю нанести малейшего неудовольствия, а не только лишить крова. А вольно твоему Нечаю беспутному так спешно сунуться в шайку врагов моих да думать, что Удачу вот сейчас и связали по рукам по ногам да по миру пустили! Ведь не так же вышло… Было мне немало горя-притесненья, да правда взяла верх… Ущербу понес я малую толику, а выкрутился и ворочу помаленьку потери свои… А вот с поворотом на пользу мне дьячьих затеев да лжей, как на их поворотились да глядеть стали в оба, потребовалось перечесть софийского казначея… Человек хороший он, а из-за смутников да по милости твоего сожителя в петле словно затянут… Так это пахнет истинно правежем ему, да и Нечаю твоему… А я тут ни при чем, могу на Бога взглянуть не зазираючи совести. – И он перекрестился, взглянув на икону.
Февронья вздрогнула – и ужас невольно выразился на ее открытом лице, когда речь Удачи прямо доказала ей, что ему все известно, что бесполезны будут дальнейшие окольные рассуждения.
От проницательного Удачи не укрылось действие слов его на Февронью; но, как ей показалось, лицо кума было еще более расположено на добро и нисколько не проявляло холодности, скорее всего ожидавшейся ей при обращении к нему, тем более после неудачи подхода, ясного ему как день. Жена Нечая Севастьяныча, одаренная здоровым, прямым смыслом, в понятиях о добре и зле расходилась с мужем вполне, оставаясь доброй женой и нежной матерью. Не думая приукрашивать черноту Нечая относительно поступка с Удачей, она тем не менее захотела испытать все средства для спасения семьи от неминуемой нищеты и, собрав все свои нравственные и умственные силы, едва могла выговорить Удаче, опускаясь невольно на колени:
– Пощади меня и семью… не доводи до гибели…
Вся кровь бросилась в лицо бледному обычно Удаче. Он тяжело дышал и отдувался, словно в груди его не было места для выхода из легких воздуха. Холодный пот выступил на побледневшем лице старого Осорьина, но он молчал, выдерживая, должно быть, страшную борьбу с собой. Наконец эта борьба, должно быть, кончилась с явлением новой мысли, озарившей благодатным светом ум Удачи. В глазах его блеснула искра удовольствия, мгновенно смягчившая суровые черты сосредоточенного дельца. Он дохнул свободной грудью. Поднял Февронью и, ближе к ней придвинувшись, словно не желая, чтобы кто слышал, что будет он ей дальше говорить, спросил шепотом:
– Сколько же нужно, чтобы покрыть недочет казначея?
– Шестьдесят рублев, никак, да три рубля еще, да сколько-то алтын…
– Казначей софийский не дурной человек, рука руку моет… У меня есть свободные деньги одного приятеля, дьяка софийского теперь, Данилы Микулича Бортенева. Их я могу ссудить, кума, казначею софийскому на выручку… Только пусть эти рубли запишутся не за Нечаев счет, а за твой, Февронья Минаевна… Якобы ты дала эти деньги в рост с наддачею, на часть дочери твоей Глафиры Нечаевны, из твоего материнского наследства… Слышишь?.. Так вот, а не иначе!.. И не перечь…
– Господь да благословит тебя, кум!.. В тебе одном вижу я Божеское милосердие к себе бесталанной… Да наградит Он тебя сторицей, что воздал нам добром за зло!
Она тихо заплакала, не владея собой, от радости.
Удача ходил по светлице, давая время куме прийти в себя.
Вот она успокоилась – и он продолжал наказ:
– Только чтобы этого не знал Нечай… Сделаю я для тебя – что любила моего Субботу, как мать, да для Глаши… Не дал Бог мне видеть счастья сына. Жив ли он, не ведаю. – Удача вздохнул тяжело и прослезился. – Ни для кого другого… Пусть заяц потрусит, пока расчухает, как и что… Ты – молчок! Я уж все обделаю, повидаюсь с казначеем и возьму от него расписку на твое имя… как я тебе сказал.
И суровый делец улыбался в эту минуту, как казалось Февронье, детской проделке либо потешке своей: хоть страхом наказать низость Нечая. «Не совсем, значит, он ему противен… а, разумеется, прямо простить не след… опять непутный забудется!» – решила она.
Добрая жена в этом случае жестоко ошибалась – и если бы знала она самую суть дела, может быть, удивляясь величию доброты в Удаче, помнившем вечно оказанное ему благодеяние, нашла бы она естественным допустить в человеке с такими правилами возможность и вечного памятованья зла. Для Удачи Нечай не существовал; но зла ему желать или делать не думал отец Субботы, тосковавший о сыне и простиравший почти родственную нежность на бывшую невесту его, Глашу. Во имя Глаши и для Февроньи Минаевны сделал Осорьин это последнее одолжение, вечно помня добро, оказанное ему Данилой Микуличем, в первый раз тогда с ним сошедшимся и сделавшим все, чего просил Осорьин, уверенный в своей правоте. Не допустить разорить его ворогам было самым важным одолженьем для Удачи со стороны недельщика, – и, обделав дела свои, признательный Удача принес Бортеневу поминок. Тот не принял, отозвавшись, что ему не за что брать, что это взятка, – и ее поставит злодей Змеев в укор ему, Даниле, ища всякого случая придраться. Между тем Бортенев, оставаясь человеком небогатым, разумеется, не терял случая иметь барыш через торговые обороты, участием паями в торговых предприятиях, если бы были средства – как исстари в Новгороде делали все служилые люди по заведенному порядку, еще при вечевом укладе. Перечет софийского казначея озадачил всех новгородских дельцов, потому что к ссудам из его сундука прибегали все они в крайнем случае, не встречая отказа и посильно делясь выгодами, к обоюдной пользе. Откройся недочет – за ним сделается гласным и это нескудное выдаванье ссуд на короткие сроки. А затем как поручиться, не разъяснится ли вполне вся обходимая, окольная стезя доходов служилого класса путем торговли на счет замедляемых в пересылке денег великого государя? Наказанье уличенных тут будет меньшей долей зла, а истинным, общим наказаньем станет прекращенье этим путем всякой наживы. Вот отчего все в Новагороде повесили нос, когда прослышали о вероятности недочета у софийского казначея. Удача, как делец, не имел рассчета в прекращении из софийского сундука займов. Сам прямо вызваться на услугу для местных дельцов служилых тоже не хотел он, хотя казначея, как человека, явно погибавшего за других, и человека сговорчивого и доброго, ему не могло не быть жалко. Просьба Февроньи, заставшей врасплох Удачу, дала ему возможность разом сделать два дела: выручить казначея и выполнить долг благодарности Бортеневу. Да так еще, что ему не было возможности и отказываться за неизвестностью руки дававшего.
Читать дальше