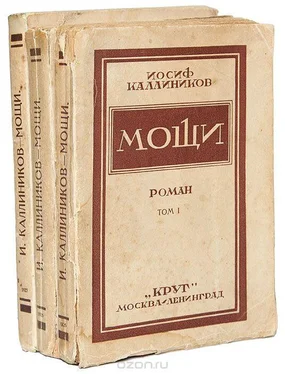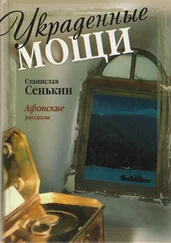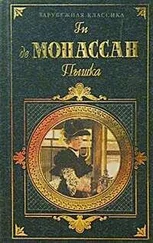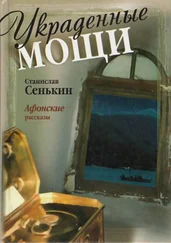— Прости ты меня. Плохое думал… Я отдам тебе вещи…
И опять пыльную котомку из-под постели выволок и, не думая ни о чем, достал рубашку женскую в кружевах и с потемневшими пятнами буроватыми и сережки с подвесками, и гранаты с жемчугом. Вскрикнула Марья Карповна, увидав перстеньки да брошки…
— Откуда у тебя это?.. Так и ты вор, значит?!. У кого накрал? А говоришь, и про мои вещи не знал…
— Не мои вещи!
— А чьи же они, когда под кроватью у себя держишь?!. А рубашка чья, — говори: чья?..
— Николкины вещи, помнишь Николку, — его, он собирал. И ложки его тут, он ведь раздаривал богомольцам ложки. Осталась сумка его, до сих пор лежала…
— Может, и правда Николкины?.. Николкины, да?.. И ты мне прости, прости, Афоня — душа у меня разрывается, голова помутилась… Прости…
А потом опять на рубашку взглянула — опять вскрикнула:
— А рубашка чья, говори?..
А потом вспомнила про Николку да Феничку и упавшим голосом сказала тихо:
— Может, ее…
На Феничку намекнула, и Афонька подумал тоже, — берег что…
Больше ни о чем не расспрашивала, только уходя сказала:
— Спас ты ее?.. Спас?..
— Спас!
— Уходи, если спас. К ней иди!
Как близкие брат и сестра и как чужие разошлись — спокойно, только у обоих, у каждого про свое клокотало в сердце.
Сказала Афоньке уходить к ней — осенила его, сразу дорога ясная обозначилась. Вернулся в трактир, спокойно до закрытия досидел, взял выручку и в последний раз пошел в свою кладовку собрать пожитки. Собрал котомку свою монастырскую и Николкину, еще с теми же ложками резными монашескими и не в рубашку девичью с кружевами завернул вещички, а в старый носок ссыпал и бросил на дно котомки, а рубашку под самый низ в свою положил и, оставив на столе выручку, запер тем же замочком погнутым свою конуру и через двор, мимо дворницкой на Пеньки пошел, — к ней, к Вифлеемской звезде — к Феничке. Через Оку шел по мосту, оглянулся кругом — ни души, и оросил в воду котомку приятеля. Сперва, когда у Николки украл, думал, что про черный день пригодятся вещицы его, а теперь, в такой день, когда звезда поднялась подле станции со стороны Пеньёв, — показалось, что ничего кроме нее и нет на земле сумрачной, и отряхнул прах тления монастырского — кинул котомку черную.
Дунька вернулась вечером, белье принесла, гладью шитое, и подивилась, что караульщика нет ночного — Афонички, с радости у хозяйки на низ попросилась, подбежала к кладовке — замок и подумала, что по делам пошел на всю ночь в слободку с ребятами.
Наутро постель прибирать Марья Карповна позвала, вошла в спальню Дунька…
— Возьми перстенек свой…
И подала ей колечко с незабудочкой. Та рот даже раскрыла от ужаса.
— Откуда у вас?..
— Афанасий Тимофеевич велел передать.
— Как передать?! А где ж он?..
— Не знаю. Ушел.
— Куда ж он ушел?
— Не знаю.
— А вернется когда?
— Никогда.
— Как?!.
Тут же и опустилась на пол — ручьем залилась, приговаривая:
— Как же так это вышло?.. Свадьба у нас к Покрову… Да неправда ж это… На четвертом оставил меня… Что ж я с ребеночком делать буду?.. Как же это так?.. Да я самому Касьяну Парменычу расскажу: отыщет его, жениться прикажет… А колечко-то как же?.. откуда ж оно у вас взялось?.. Как же это так?.. Что ж теперь делать-то?..
И, ополоумев, волосы клочьями растрепала, за ворот кофты тянула себя — отлетали пуговки белые и рубашка треснула, а голову положила в колени — до полу перегнулась, и поползла к ногам Марьи Карповны, хотела молить ее — возвратить, вернуть, потому горела голова мыслью, что она, хозяйка, повинна во всем, и знает наверное, ушел куда, сама, небось, отослала, спрятала, чтоб только от нее избавиться.
Точно до слезы выплаканные в последние ночи перед концом, с Афонькою перед разлукою, не от злобы и уж не от ревности, а от горечи за свою муку — вынула Марья Карповна из кармана сережки с подвесками да гранаты и, побрякивая над ухом у ней, — шепотом:
— И ожерелье отдал с сережками… Не знал, что краденое, — думал, от тебя откупалась подарками… Вот они… Погляди… Ты погляди только… Красивы яхонты… Он ведь принес, Афоня мой, и не твой, а мой, и все время моим был… Сережки-то вот они… Он принес.
И глубоко где-то у Дуньки шевельнулось на миг, что ни ее, ни хозяйки не любил Афонька, а что-то еще тут было, а что — не знала и почувствовать не могла, — но только на миг чувство такое было, а потом — резанула по-звериному ревность — подпрыгнула с полу и вцепилась ногтями в глаза Марье Карповне, — та только охнула, руками вскинула и ухватилась за ее руки — оторвать от лица хотела. — резала боль глаза, не замечала сама, что своими же руками Дуньки руки на глаза надавливала и тоже по-звериному от боли рванувшись зубами впилась в руку ей.
Читать дальше