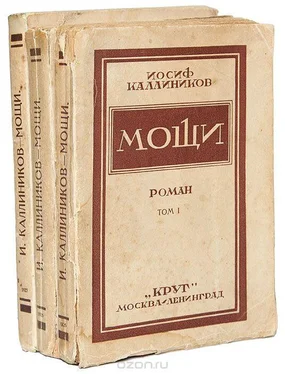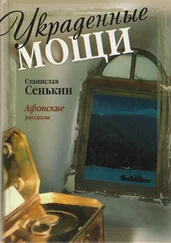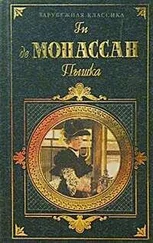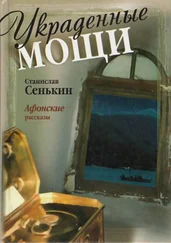Вечером в кладовку пришел свою из трактира, только ложиться хотел — будто дверь кто трогает, раздеваться стал — опять будто стук легкий.
Приоткрыл — Дуняшка стоит.
— Тебе чего?
— По делу к вам, по секретному. Еле дождалась, когда уляжется, — к ней сегодня пошел и пост не соблюл — пошел к хозяйке. Насчет вас история у них вчера вышла.
— Заходи, говори в чем дело.
И не обнял ее — заколотилось сердце, как услышал про старика с хозяйкою.
— Неласковый вы сегодня!..
— Неласковый? Ты говори, Дунь, что случилось?..
— Петрович ему наговорил вчера про вас чего-то, а чего — сказать али нет, уже не знаю сама, — говорить ли?!
— Не мучай ты меня, говори, Дунь!
И с досадой на колени к себе посадил, в первый раз. За шею его обняла и шепотом, и не на вы, а на ты, Афонею:
— Видел он тебя в спальне у ней, сама слышала, — говорит, — не занавешено было и ставни не было, сам видел, как сиделец-то новый ваш, так это в десятом часу, зачем-то в хозяйкиной спальне был и Марья Карповна с ним, а он-то уже без поддевки, только потом, говорит, ставни заставил, сам заставлял, хозяйственно. Я это к Марье Карповне — рассказала ей, — говорит, скажи, что отпущена была — ходила в цирк поглядеть, а я, говорит, скажу своему, не могла ставню сама поднять и позвала Калябина, а что без поддевки был, так в передней скинул ее, прикрывается ночью, мол, так уж перед сном было. И к тебе за этим послала. А еще послала к тебе за тем, чтоб до утра я у тебя пробыла, ты говорит, Дунь, спаси меня, — побудь у него, будто любовь у вас, а я приду, искать тебя буду, найду, тут и старик успокоится: не со мной, мол, живет, а с Дунькою. Так мне, Афонь, оставаться? А?..
И вправду его обняла, когда согласился, чтоб оставаться на всю ночь до утра.
— Сама прислала, Афонь, к тебе. Не пришла б, может, а теперь — судьба.
— Ложись, Дунь, а я посижу тут, а может, и на пол лягу.
— Я тебе было еще рассказать хотела, а ты, вишь, какой, точно не любишь. Может, и вправду не любишь, говоришь только?
И от волнения, от тревоги за судьбу свою — за подпись Феничкину, за ее судьбу, через силу целовал ее…
— Каб не любила тебя, Афонь, не пришла бы, — ради тебя согласилась придти. А еще я тебе скажу — пытал меня сегодня Наумов, в тиятер звал. А что, говорит, Афонька-то с хозяйкой как дружно живут, душа в душу. Смеется, окаянный, точно чувствует, — нюх у него, как у собаки гончей. Я ему говорю: а тебе что, завидно, что ль, что из сидельцев тебя согнал хозяин? А в тиятер-то я и с Афанасием Тимофеевичем пойду, коли надобность будет. Пусть и он знает, чтоб старому не набрехал чего.
Еще ночью по дому Марья Карповна подняла гомон: Дуняшку искала, за дворником самого Касьяна Парменыча послала, чтоб и Наумов знал, что чиста она, как агнец; понадобилось ей в коридор, глянула на сундук (со свечой шла) — Дуняшки нет, дверь попробовала — не заперта, и знала, что нет, да хотелось комедию разыграть получше и самой войти в роль возмущения. Самого Наумова и в кладовку к Афоньке послали, и привели с повинною девку к самому старику.
Наумов за дверь, Марья Карповна и давай старику вычитывать:
— Видишь теперь, с кем твой сиделец-то новый любовь крутит, попал в трактир, подле водки засел, — небось и выпивать стал, а стал выпивать и до этого дошел. Вот тебе и монах, и святой человек, а ты меня поедом ешь, человека ставень позвала закрыть, а он не бог весть что придумал, только меня-то измучили, а все это твой Петрович злобствует, что из сидельцев прогнал, и не то что на Калябина, а на весь свет злобствует, и на меня тоже, а я-то тут при чем, ну, скажи, Касьян?
Старик только покрякивал да головой крутил. И вычитывала-то Марья Карповна при девушке, чтоб старика застыдить сильнее. А Дуняшка чуть не в причет, будто и вправду перед барыней провинилась:
— Заманил он меня, Марья Карповна, барыня, голобушка, — не сама я. Я, говорит, люблю тебя; как на место сюда пришел, так и полюбил, — женюсь, говорит, на тебе.
— Я вот его оженю завтра, а ты ступай, не голоси тут, — прикажу — так женится.
И опять пошел Касьян к Марье Карповне, — добродушно посмеивался:
— Все они святоши, дай только им до вашего брата добраться, и святость свою потеряют. Ложись, Дашенька, до утра еще долго.
— Ты не гони его, Касьян Парменыч, — был монахом, а в город попал, и потянуло его житье, как и все живут. Трудящийся он, смирный.
— Жениться заставлю на ней, а не женится — прогоню.
Наутро Афонька за стойкой сидел сумрачен, дожидал, что хозяин ему говорить будет, — до обеда не дождал, пришел только к вечеру.
Читать дальше