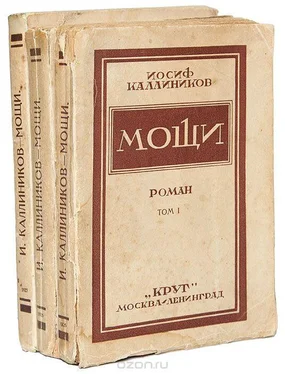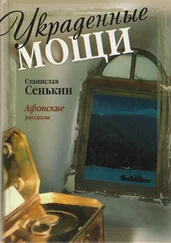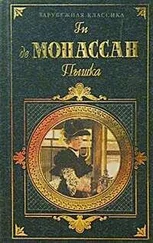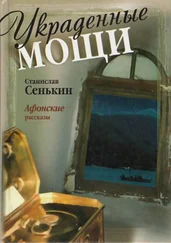— Дай приедет Касьян Парменыч, я ему про тебя выложу. Ей-богу, вот те крест, расскажу. Попомни ты!
В темноте шептала зло, в спину по коридору поталкивая, в одной рубахе шла босиком. Довела до двери, закрывать хотела — взялась за скобку, а он за руку хвать и опереться ни за что не успела — на черную лестницу выдернул, другой рукой дверь прихлопнул и привалился — припер…
Обнял ее — без озорства всякого, всерьез будто, потому, как сказала, что старику скажет, подумал — и вправду тогда беда: как Николку с понятым в монастырь сошлет, а тогда до смерти и Фенички не увидать ему, и давай шептать Дуньке:
— Пошутил это я, не трону тебя, дура!.. Я ведь еще с того раза, как ты в трактир прибегала за мной, тогда еще полюбил. Ты думаешь, по любви я хожу к хозяйке, — как же! Она еще в монастыре меня в город сманула, житье обещала, человеком сделать, в люди вывести, а тут и заперла в чулане этом. Терплю я, — потому и терплю, что я через нее, может, в люди выйду. Она-то давно известна, как же — богу ездит молиться, всем монахам на шею вешается. А мне что монастырь? По сиротству я пошел в него. Отец помер, мальчишкой был, а у матери еще и сестренка была, ну и посоветовала ей богомолка одна в монастырь меня отвезти, кормиться. Вот и жил я там; может, и не ушел бы, кабы не сманила меня твоя купчиха.
От холода дрожала, слушала, зубами стучать начала.
— Холодно мне, пустите.
— Прикрою тебя, рассказать дай.
И прикрыл ее под поддевку свою, плечи закутал, и сама прижалась от холода и конец поддевки даже рукой держала, закутывалась, сама не знала, отчего слушала — не одно любопытство бабье и еще в душе разгоралось что-то.
— Ты думаешь, в монастыре святость?.. Для кого святость, а для нас — грех один. Мы тоже люди!.. Издали-то еще сильней разжигает баба. За каждой там молодые монахи гоняют, как псы язык высунут, не надышатся, а зима подойдет — зверье-зверьем. А все эти купчихи, они в грех вводят. А я-то что, каменный, что ль, по-твоему?!. И я человек… Да только лишил меня бог красоты. У нас больше купчих красотой берут, а на меня ни одна и не глядела — прокаженный я. А эта вот и накинулась. Она ведь, я тебе говорю, на кого зря кидалась, лишь бы мужик поздоровей был. За то и понравился ей, что силен, и стала она меня сманивать к себе на житье хорошее. И старика своего научает обманывать. А как увидал тебя — полюбил сразу. Вошла ты сегодня в чулан мой — испугался я, подумал: сама пришла, а это ты, — коли б не идти наверх — не пустил бы тебя, будь чтоб было б, а не ушла бы ты. Полюбил я тебя. Сам знаю, что страшен, а страшного кто любит?! Разве девка полюбит страшного? — ей красивого подавай, кудреватого…
А потом прижал ее к себе крепко и распахнул поддевку сразу.
— Ступай, Дуня, — я разве силком хочу?! Силком не дождешься любви. Так-то… А что хожу-то я к ней — нужда ходит.
Отошел от двери, ощупью по ступенькам сходить стал, оставил ее наверху, в рубахе одной, на холоде и как зачумленная от слов этих подле двери стояла, думала, а потом сразу рванулась к лестнице и чуть не закричала ему:
— А вправду ты говоришь?..
Дверь закрывать стала, послышалось будто ей:
— Правда…
Сама не знала: не то крикнула, не то только хотела крикнуть вслед ему.
Так бы и кинулась к нему от слов этих, за сердце взяли они девку-чернавку. Целый век понукали только и ласкового слова не слышала от людей. Как мать привезла из деревни в девчонки четырнадцати лет, так с места на место по домам и ходит. Попала к Галкиной и прижилась у ней, — одно беда: приказчики да работники не дают житья, — на возрасте стала — округлилася, как яблоки спелые груди колышатся и от самой пахнет яблоком. Встретит какой в пиджачке, сейчас это заигрывать: за бок ущипнет, за грудь ухватит, — хозяйке жаловалась — посмеялась только.
— С красивой девкой, Дунь, всегда парни заигрывают, а старою будешь — никто тебя пальцем не тронет, и рада б поиграть когда, да поздно будет.
Ушел, не позвал, не вернулся. Дверь на крючок, и легла на сундук под одеяло стеганое: так и не заснула до утра самого. Целый день думала, работа из рук валилась.
— Правда, аль нет?!. Пошутил только…
Под вечер опять позвала Марья Карповна Дуньку, будто помочь перебрать комод. Белье разобрала — принялась в сундуке за платья, и не перебирала, а искала, что дать Дуньке из старого, подарить за молчанье, за секрет ночной.
— На-ка тебе, перешить годится, не буду носить — из моды вышло.
А потом и не выдержала:
— Только ты, Дунь, никому чтоб про Афанасия Тимофеича. Томно мне жить со старым, не маленькая — понимать должна. Будет все по-хорошему — дарить тебе буду, и замуж выдам, жениха найду.
Читать дальше