В сущности, что такое человеческая жизнь? Разве она стоит стольких размышлений? И он, легат, и знатные сеньоры, и епископы, и даже Папа без лишних угрызений совести обрекали людей на смерть под предлогом свершения правосудия. Во время первого крестового похода крестоносцы, сражавшиеся как-никак под предводительством истинного святого, Годфруа Бульонского, захватили Иерусалим, а потом три дня рассуждали, пытаясь понять, надо ли им убивать семьдесят тысяч жителей этого города или нет. И после трёхдневных споров решили их убить. Только Раймон де Сен-Жиль, граф Тулузский, воспротивился этому решению и с помощью уроженцев Тулузы, моих братьев, спас, кого смог. Ну и что? А то, что человеческая жизнь не имеет цены, и превыше её иные, невидимые цели.
У меня в памяти отчётливо запечатлелась каждая секунда той ночи. В сердце моём не было ненависти. Я был орудием Господа, винтиком гигантского механизма. И злу, и добру Господь даровал равную власть, наделил силой создавать и разрушать. Он питал равную любовь и к справедливости, и к несправедливости и, казалось, не видел между ними разницы. Несправедливость неизбежно была сильнее, потому что не ограничивала себя никакими внутренними законами. А представляете, что случилось бы, если бы справедливость лишилась мужества? Если бы вместо того, чтобы восстанавливать равновесие и совершать поступки, она бы стала думать о своей жизни? Да, Господь желал зла, защищал злых, наделял их властью и богатством и — что совершенно непостижимо — в благоволении своём водружал на их чело божественный венец ума. Но в избранный Им час Он расстраивал их планы, побуждая какого-нибудь безвестного человека совершить неожиданный поступок. Он побуждал его духовно и поддерживал материально. Сначала Он формировал зародыш. Питаясь либо соками земли, либо мысленными образами, зародыш этот развивался медленно. Подтверждение тому я нашёл в субстанции своих воспоминаний. Поступок прорастал во мне словно растение. Я был хранителем божественного семени, которому предстояло пресуществиться в физическом мире. Моя собственная жизнь была ничтожно малой платой за него. Я сгорал от нетерпения принести себя в жертву, словно мне на грудь положили горящую головню.
В конце концов я заснул. Проснулся внезапно, и мне показалось, что прошла целая вечность. Рассвет ещё не наступил. Тибо был уже на ногах, и в слуховое оконце что-то высматривал на улице. Послышалось конское ржание.
— Они уезжают? — тихо прошептал я, и он утвердительно кивнул.
Одним прыжком я вскочил на ноги. В узкой щёлочке оконца мы оба заметили толстенную паучиху, пытавшуюся протиснуться наружу. Тибо протянул руку, намереваясь раздавить её. Я живо схватил его за рукав. Он посмотрел на меня с удивлением.
— Разве ты передумал? — спросил он.
Я отрицательно замотал головой и молча снял с себя кольчугу. Он по-прежнему глядел на меня, ничего не понимая. Я объяснил ему, что не намереваюсь бежать, а те, кто набросится на меня, без кольчуги убьют меня быстрее. Тогда он подобрал мой шлем, водрузил его мне на голову и настоял, чтобы я опустил на лицо забрало.
— Никто не знает, что может случиться. Если ты спасёшься, лучше, если в тебе не признают слугу графа.
Выйдя из амбара, я увидел сидящего напротив двери рыжеволосого человека. Рассеянно перебирая бороду, он смотрел на меня во все глаза. В шлеме с опущенным забралом и в полотняной рубахе, выбившейся из-под пояса, я действительно выглядел одним из тех карикатурных уродцев, которые являются в кошмарах.
Когда мы добрались до конюшни, слуга как раз открывал дверь. Тибо сказал, что нам очень повезло: наши кони на месте. Пожав плечами, я ответил, что добрался бы до неба — или до ада — пешком ничуть не хуже, чем на лошади. И он старательно снял флажки с гербами с притороченных к нашим сёдлам копий.
Дорога, ведущая к лодкам, шла вниз по склону. По обеим сторонам её росли тростник и тамариск. Река была непривычно спокойна. Вдалеке лаяли собаки. Чудо нарождающегося дня было столь прекрасно, что хотелось плакать.
Большинство всадников спешились, а один из них стал по-итальянски подзывать босоногого лодочника, медленно выволакивавшего на берег свою лодку. Поодаль, на расстоянии нескольких шагов, маячил одинокий всадник. Я узнал в нём Пьера де Кастельно. Он сидел в седле, прямой как жердь, вытянув шею и наклонив голову. Внезапно он показался мне таким тщедушным, что если бы сердцу моему было доступно сострадание, то сейчас оно непременно одержало бы верх.
Читать дальше
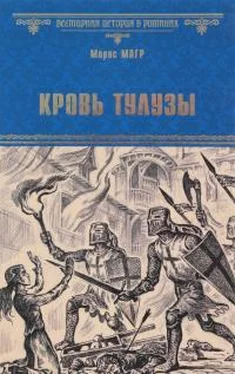


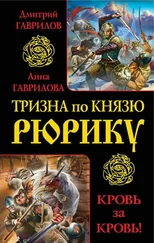

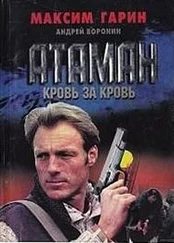



![Райан Гродин - Кровь за кровь [litres]](/books/418706/rajan-grodin-krov-za-krov-litres-thumb.webp)
